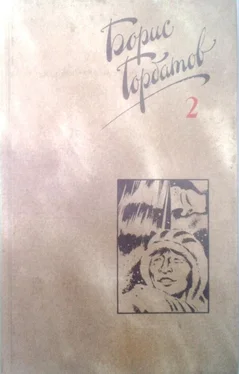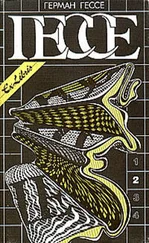Но эта ночь и шаги сзади... Еще раньше, чем он свершит то, к чему предназначила его судьба, он сопьется или сойдет с ума от этой бредовой двойной жизни. Бред, липкий, мокрый бред... Эти навязчивые шаги сзади... Всю жизнь — шаги сзади... Подозрительные взгляды сбоку, искоса. Осторожно щупающие, холодные пальцы... Иногда он их видит, чувствует — чаще только кажется. Нервы? Барышня! Но эти шаги сзади... И лязганье винтовки... «Гайдаш, почему Гайдаш? Почему обязательно Гайдаш? Всюду Гайдаш, Гайдаши... скулы...»
Он остановился, завязнув в сугробе. Волны снега бились вокруг. Ему пришло в голову, что если остаться так стоять и не двигаться — занесет снегом. Сначала засыпет сапоги («отличные, кавказские мягкие сапоги!» — он пожалел их), потом ноги, потом туловище, наконец, все до шишака шлема. Все, чем был Никита Ковалев, превратится в бесформенный снежный холм. Заметет снегом город... Весь, с макушками минаретов, с крышами и трубами, все исчезнет, провалится, погрузится в мягкий пушистый снег — и уснет. Сон кладбища, покой. Хорошо-о-о!
«А я? А мои мечты? А игра, которую я затеял и которая приведет меня к власти и славе? Власть! Сладостное слово. Власть! Власть!» — Он часто на все лады повторял это свистящее слово, и оно обнадеживало, успокаивало, двигало. Гнулся в послушном молчании перед полковыми чинами, а про себя беззвучно шептал: «Власть!» Задыхался в пешем строю на горном марше и шептал: «Власть!» Изнывал в захолустном гарнизоне, но мечтал: «Власть! Власть! Власть!» Это слово стало паролем, девизом, знаменем.
Он торопливо выбрался из сугроба и прижался к стене дома. Что я хотел сделать? Сейчас? Немедленно? Да закурить. Это очень умно. Закурить. Вот. Он вытащил из кармана массивный серебряный портсигар (отцово наследство) и закурил.
Шаги сзади стихли. Проклятые шаги. Наконец-то они стихли.
«Я бы мог убить его сейчас, — подумал он, — ночь, метель, глушь. Никто бы и не увидел». Он зажмурил глаза и увидел все так, словно это уже произошло: короткий, глухой удар, пальцы на горле, синий труп, — не надо оружия, ни в каком случае не применять оружия, это выдаст убийцу. Удар — и пальцы. Убийца-ночь. Мертвые не просыпаются. Труп заметет снегом. Упал, замерз. Я не видел Гайдаша. Он не приходил ко мне.
«Мне приходится придумывать алиби, — брезгливо подумал он. — Вот что значит не иметь власти».
— Зачем вы остановились? — хрипло крикнул он Гайдашу. — Идите, я догоню вас.
Гайдаш медленно подходил к нему... Никита ждал его, судорожно сжав в руке портсигар. Он еще сам не верил, что это произойдет сейчас, здесь. Но это должно произойти. Надо перешагнуть через его труп.
— Нас ждут в штабе, — пробурчал Гайдаш. Он озяб. Постукивал сапогами.
Его фигура казалась Ковалеву мутной, расплывчатой, хотя и стояла рядом, исполосованная и заштрихованная косыми линиями метели. Просто белесая тень в ночи. Ее можно, как дым, развеять нетерпеливым движением руки. Он машет рукой перед собой. Но тень не пропадает. Все такая же съежившаяся, в нахохленном воротнике, иссеченная метелью, она присутствует здесь, дышит, постукивает сапогами, позвякивает винтовкой. О чем думает эта тень, — а она думает, мрачно насупившись. Что она знает, о чем догадывается, чем грозит, что будет делать? Это надо узнать, выпытать, вырвать сейчас, немедленно — через двадцать минут будет поздно. Непроницаемое лицо красноармейца злило его, он чувствовал, что уже не в силах сдерживаться.
И Гайдаш тоже искоса поглядывал на Ковалева, стараясь делать это так, чтобы тот не замечал его настороженных глаз и не приписал это трусости и страху смерти. Оба молчали, готовые к бою, к схватке — оба молчали и ждали, сами не зная чего.
Алексей не сомневался, когда шел с приказом командира полка на Нагорную улицу, что застанет там обоих: и Ковалева и Бакинского. Он усмехался, предчувствуя эту встречу. Он свалится к ним как снег на голову. Что они сделают? Испугаются ли? О, конечно, сдрейфят. Любопытно увидеть, каков Ковалев в испуге. Это презрительное хищное лицо вдруг станет жалким и дряблым.
Именно в эту минуту он вдруг вспомнил Семчика, но не таким, каким видел его в последний раз, а каким представлял себе, когда мчался на выручку: лежащим в багровой от крови пыли с судорожно скрюченными пальцами. Почему он вспомнил Семчика, когда уже думал о другом: о себе. Никогда раньше не думал он так много о себе, как в последнее время. Раньше он просто жил, — теперь жил, думал и осмысливал прожитое. «Это признак зрелости?» — спросил он себя. Но даже сама эта мысль показалась ему мальчишеской. Он вздохнул.
Читать дальше