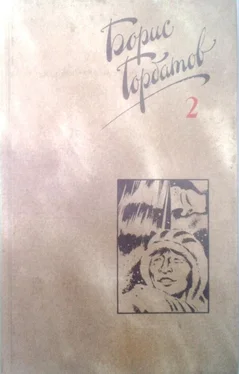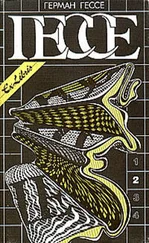СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ. 2 ТОМ
Роман
Успеть, только бы успеть! Больше мы ни о чем не думали.
Нас трясло, швыряло в седлах, подбрасывало; плохо пристегнутые маузеры шлепались о бедра; колени колотились о тощие бока лошади; в этой сумасшедшей скачке не было ни ритма, ни лада — только бы скорее, скорее, скорее, только бы успеть!
Взмыленные кони испуганно косили глазами, хрипели; потные их спины дымились; густой пар колыхался над ними; гнедые хвосты пыли крутились сзади. Задыхаясь от острого, горячего запаха лошадиного пота, от бешеной скачки, от жары и пыли, от нетерпения, злобы, мчались сквозь рыжую, колючую степь Алексей Гайдаш и я.
Алексей скакал чуть впереди меня. Он нервничал. Нетерпеливо облизывал пересохшие губы. Торопил коня. То приподнимался на стременах, то падал в жесткое канадское седло. Хрипло кричал: «Скорей! Скорей!» — и бил коня о бока стоптанными каблуками. Успеть! Только бы успеть!
Ему представлялся истекающий кровью Семчик. Он лежал, беспомощно раскинув руки, пальцами зарывшись в пыль. Царапал ногтями горячую, растрескавшуюся землю. Кричал, звал на помощь. Ждал. Один. В чужом селе. Среди врагов. Они добьют его. Дорежут ножами. Скорее, скорее бы!
Мы мчались молча. Только иногда Алеша хрипел — скорей! — и это равно относилось и ко мне, и к лошади, и к самому Алеше.
Между собой мы не разговаривали. Молча сели на коней. Молча ехали.
Давно уже перестали мы дружить с Алешей. Жизнь развела нас. Мы продолжали работать рядом, бок о бок, но дружбы не было. Она улетела от нас, растаяла, как дым в морозном небе. Бывшие друзья — это хуже, чем чужие люди.
Мне казалось, что я мало изменился с тех пор, как в «коммуне номер раз» подымал песню и стакан за комсомол, за молодость, за удачу.
Удача! Оказывается, она портит людей. Алексею выпала на долю большая удача. Мы восторженно следили за ним. Он рос на наших глазах. С хрустом распрямлялись его плечи. Он был уже на голову выше нас — мы радовались его удаче. Встречаясь где-нибудь на бегу, случайно, на перекрестке, в вагоне ростовского ускоренного или у буфетной стойки в театре, мы говорили друг другу: «Наш Алеша-то: молодец!»
И если случались стаканы — мы подымали их за здоровье, за рост и удачу.
Но, став окружным комсомольским вождем, он перестал быть нашим Алешей. Неужели это тот простой, худощавый беспокойный паренек с Заводской улицы, которого я так любил в детстве? Откуда появились в нем эти важные, округлые жесты? Этот властный, резкий, требовательный тон? И этот взгляд, пустой, холодный, не замечающий никого, взгляд, который проходит сквозь человека, не окрашиваясь, не загораясь?
Меня подавляла его шумливость. Всюду — в театре, на улице, в клубе — он шел, расталкивая людей и громко разговаривая. Он не умел говорить тихо. Он не умел слушать — привык, чтобы слушали его. Он не умел соглашаться, — привык, чтобы соглашались с ним, подчинялись ему. И все, что он говорил, разъяснял, рассказывал, делал — он делал шумно, размашисто, по-хозяйски.
В театре, развалившись в кресле, он громко и пренебрежительно спрашивал, нарушая тишину застывшего зала:
— Ну что, скоро там этот старичок помрет?
Входя в ресторан, он с порога кричал официантке:
— Девушка! Идите-ка накормите меня...
Все в городе знали Алексея Гайдаша. Он гордился этим.
— Это мой приятель, — говорил он небрежно. — Накормите и его, экстра, аллюр три креста.
У него появились специфические остроты, шутки, поговорки. Между собой мы прозвали их «генеральскими». Наливая пиво в бокал и чокаясь, он приговаривал:
— Ну-ка, согласуем!
Меню он называл «повесткой дня», здороваясь, восклицал: «Ну, как жизнь молодая?», подчиненных спрашивал: «Как думаешь, товарищ начальник?», хотя начальником он признавал только себя, себя одного.
У него были любимые словечки, он тщился сделать их крылатыми. Он хотел играть роль большого человека, самостоятельного, независимого, опытного.
У него была сокровенная мечта: выдумать и пустить в ход такой лозунг, который перевернул бы весь комсомол. Он пробовал много раз, но это приносило ему одни неприятности. Однажды в докладе он выпалил: «Плохой комсомолец лучше хорошего беспартийного».
Ему пришлось потом отказываться от этого «лозунга», но упорствовал он долго.
Мы прозвали его «вождик». Он перестал обижаться на кличку. Боюсь — она понравилась ему.
Читать дальше