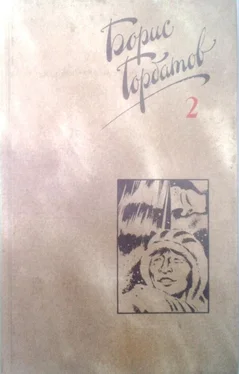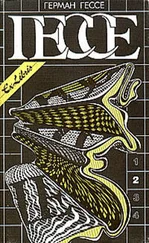Мы все считали себя рожденными для великих дел. Чувство неудовлетворенности собой и сделанным нами было нашим седьмым чувством, шестым было чувство родины. Мы всегда были недовольны собой, своим положением, успехами, удачами. Хотелось большего! Уж слишком широко распахнулись перед нами далекие дали!
И я наблюдал, как всюду вокруг меня суетились люди с чемоданами, — начал нервничать, злиться, тосковать.
Парни, приезжающие в отпуск из столицы, сочувственным взглядом оглядывали меня, мою провинциальную косоворотку, мои туфли на босу ногу.
— Ты еще здесь? — удивленно спрашивали они. — А где Иванов, Петров, Сидоров?
Иванов оказывался в столице, Петров во флоте, Сидоров в вузе. Люди двигались, спешили, торопились, бросались в поезда, автомобили, самолеты, пароходы. Никто не хотел строить свою жизнь в родном маленьком городе, охотно предоставляя свои дома, улицы, сады, любимые и памятные места юности новым людям, рвущимся из сел и с заводов.
На моих глазах страна совершала свой рывок вперед, и мне хотелось рвануться вместе со всеми.
Я хотел об этом поговорить с Рябининым, но он шагал рядом мрачный, погруженный в свои думы, его не хотелось тревожить. Да и сможет ли он, увлеченный своей работой на заводе, понять меня. Еще, пожалуй, обругает.
Впрочем, может быть, и в самом деле меня следовало ругать?
В эту ночь не спалось Алеше. Он лежал рядом с горячей, сонной Любашей, ворочался, курил, но уснуть не мог.
Ночь стояла над страной. Все спали. Спал Рябинин спокойным легким сном инженера. Если и снились ему сны, то, вероятно, простые и четкие, как чертежи. Все ясно этому благополучному человеку. А Юлька? Юлька тоже спала где-нибудь в семейной двуспальной постели с мужем, и этот муж не Рябинин, а кто-то другой, незнакомый Алеше.
Где-нибудь между мешками на пристани или в углу вокзала спал беспокойный Мотя, пробирающийся на Урал, к старателям. Ему снились веселые сны: горы золота, серебряные реки, чудеса-а-а... Он дышал порывисто, храпел мощно, во всю носоглотку, как и подобает здоровому, бывалому парню, привыкшему спать на земле, ветром одеваться.
Спал и Павлик; часы-ходики висели над койкой, отстукивали минуты трудового сна рабочего парня. Маятник ласково качался на цепи. Спи, Павлик, спи, мы разбудим тебя к сроку, к гудку, спи, Павлик, спи.
Где спал сейчас Валька Бакинский? В тюрьме, где ему следовало бы быть. Или следственные органы, получившие сообщение Алеши, решили, что Валька — гнусная, но безвредная тля, и оставили его спокойно спать на диване где-нибудь в комнате приятеля. Остатки икры на столе, окурки в графине. Валька накрылся газетным листом, чтоб не беспокоили мухи. Но и мухи спали.
Во всем мире один только Алексей Гайдаш не спал. Беспокойно ворочался на постели.
Он курил и курил папиросу за папиросой, гасил их о железную спинку кровати и аккуратно втыкал в пепельницу.
Он один не спал во всем мире. Он один был без дела в охваченной работой стране. Он один был забыт, покинут, одинок.
«Лишний человек, — насмешливо подумал он вдруг о себе. — Рудин времени социализма, черт тебя подери».
Это было дико. Он, член партии, боец, большевик, вдруг оказался лишним. Этого не могло быть. «Это чепуха, — убеждал он себя. И тут же ехидно спрашивал: — Хорошо, а почему же тогда тебя никуда не зовут, не требуют. Почему тебе позволяют лежать на диване и киснуть. О тебе забыли, болван ты этакий. Кому ты нужен? Нужны инженеры, Ершовы, Рябинины, Павлики. А ты лишний. Лишний, как Рудин, Лаврецкий, Печорин, о которых ты недавно впервые прочел, но которые тебе родственники. Как и они, ты обуреваем высокими порывами и, как они, ничего не умеешь делать. Как и они, ты болтун, фразер, мастер фейерверков и вдохновитель сельтерского энтузиазма».
Но ни тогда, в кабинете секретаря Цекамола, ни долгое время спустя он не понимал еще всей глубины катастрофы, которая случилась с ним. Дело было совсем не в том, что его сняли с работы, зачеркнули всю его деятельность, публично высмеяли и обругали его. Вообще дело было не в том, что произошло с ним во внешнем мире. В конечном счете для него всегда найдется и дело и работа, он не пропадет, выплывет.
Самое страшное заключалось в том, что происходило с ним самим сейчас, когда он оставался один на один с собою.
Почва выскользнула из-под его ног, в этом заключалось самое страшное. Себе одному, наедине, он мог признаться в том, в чем ни за что никому не признался бы: секретарь Цекамола ругал его правильно. Но это признание не облегчало, а еще больше угнетало Алешу. Спасительное чувство обиды на несправедливость, совершенную над ним, так сладостно утешавшее его все это время, исчезло. Зато пришло беспощадное, горькое любопытство, захотелось вдруг взглянуть на себя со стороны: ну, каков ты, Алексей Гайдаш, что собой представляешь?
Читать дальше