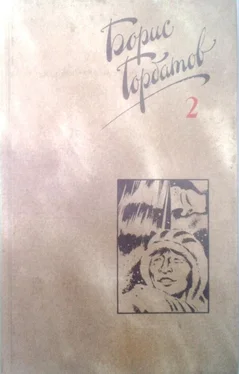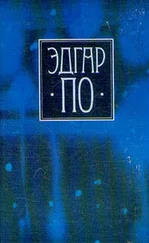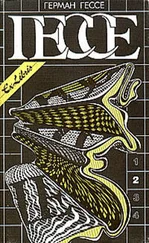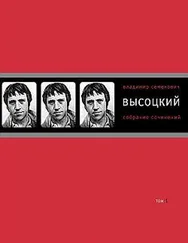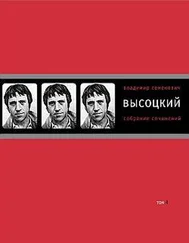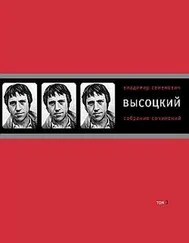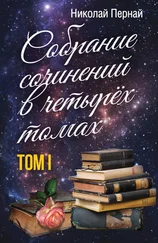— Алеша? Алеша! Ты ли? — раздался вдруг радостный голос, и к нему на шею бросился человек. Алеша успел узнать в нем Вальку Бакинского.
Валька был в ковбойской рубашке, в серых бриджах и гетрах, он был из компании киношников, и первое, что он сделал, — потащил к ним Алешу.
— Друзья! — торжественно произнес он и поднял кружку, — вот мой товарищ Алексей Гайдаш. Я не видел его шесть лет. Но я заявляю всем, имеющим уши, что это лучший человек в мире. И если кто оспаривает это или не согласится, тот мне не друг, и я попрошу его покинуть наше общество.
Но все закричали, что они горячо убеждены в том, что неизвестный им Алексей Гайдаш — лучший парень в мире, раз он друг такого парня, как Валька Бакинский; все стали чокаться, пить, разом разговаривать, шуметь, петь... Кислый чад, дым, испарения подымались к низко нависшему потолку. В этом дыму мелькали лица, кружки, столики, — и Алексей почувствовал, что все это нравится ему, все ему приятно, — и люди (киношники), и пиво (холодное, Новой Баварии), и сам он, размякший, распустившийся, как студень, на стуле, подобревший и повеселевший, нравился себе. Все закрутилось, поплыло перед глазами, теплое, мягкое, доброе.
Из пивной ушли поздно. Валька пошел провожать Алешу. Как всегда, говорил он один, Алеша молча слушал и жадно вдыхал холодный воздух ночи, он трезвел на улице.
Бакинский уже шесть лет болтался в столице. Он приехал сюда, как Растиньяк, завоевателем, а стал обывателем. Как и у Растиньяка, у него было мало денег, зато много талантов. Но много талантов — это ни одного таланта. В этом скоро должен был убедиться Бакинский, но человека можно было убедить в чем угодно, но только не в том, что он бездарен. На место каждой разбитой иллюзии немедленно подымалась новая.
Раньше всего Бакинский попробовал себя на сцене. Еще в детстве Алеша прозвал его «актером». Но актер из него не вышел.
— Я не могу изображать чужие чувства, — говорил он, — когда у меня вот здесь, — он показывал на левую сторону груди, — здесь кипят свои чувства, более богатые, нежели у пошлых персонажей.
Но это была эффектная отговорка, их много было у Бакинского. Одни и те же для всех случаев, они помогали ему беспечно жить, надеяться и даже внушать своим знакомым веру в себя. На самом деле он ушел со сцены потому, что не хотел работать; он ждал, что его чудесный талант повергнет и режиссуру и зрителей в священный трепет, но режиссер, признавший, что в Бакинском «кое-что» есть, заставил его учиться дикции, ритму, пластике, движениям. Бакинский обещал.
Ему показалось, что он умеет рисовать. Часто в восторге он замирал на улице. Паровозный дымок над вокзалом, уголок городского сада, клен, вырвавшийся из чугунной решетки, огни большого города сводили его с ума. Это надо было зарисовать немедленно, тут же. Сельские пейзажи были чужды ему. Он был городской человек до мозга костей, с ног до головы. О степи он писал: «Я бреду по зеленым мостовым», и ветер он называл: «Стремительным, как трамвай». В восторге он останавливался перед сосульками на водосточном желобе. Как это можно нарисовать! Весна в городе, весна, стесненная площадями и водосточными трубами. Капель падает с крыш. Дворники сгоняют снег метлами. Дворник, торжествуя, делает весну в городе.
Он любил город. Чем он был шумнее, тем лучше. Сутолока, бестолочь, пестрота большого города владели им. Он хотел рисовать, писать это широко, размашисто: красные, белые, синие пятна — созвездия пятен, бестолочь пятен, музыка пятен.
Он не владел рисунком. Карандаш был непослушен ему. Он мазал широкой кистью. Одни называли его урбанистом, другие — бездарью. Во всяком случае, о нем говорили. Следовательно, он был художником. Он мечтал уже о собственной мастерской.
Вдруг картины перестали писаться. Целыми днями просиживал Бакинский перед загрунтованным холстом, курил, нервничал и не мог писать. По неровной, серой поверхности холста проносились какие-то неясные тени, смутные видения картин, призраки образов. Бакинский пробовал задержать их на полотне, приковать кистью, воплотить в материальные формы — ничего не получалось. В отчаянии он бросал палитру, бродил по улицам — и тогда картины, одна полноценнее другой, возникали в его разгоряченном воображении. Он прибегал домой, бросался к холсту, хватал кисти и... иссякал. Что-то корявое, неуверенное, непохожее появлялось на проклятом холсте.
Тогда он придумал отговорку: «Я ношу картины и образы в душе, разве я могу предать их гласности».
Читать дальше