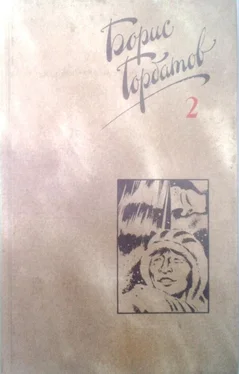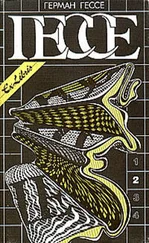Ершов стоял перед ним взлохмаченный, потный. На его глазах дрожали слезинки, лицо было красно.
Он не понимал, за что обругал его Гайдаш, за что он назвал его «шкурой», самым обидным для комсомольца словом. Шкура! Ее никогда не щадил Ершов. Увы, ему не пришлось дырявить ее на фронте, он был мал тогда, но и Гайдаш был молод. Зато в институте он не щадил себя. Парень, никогда не учившийся раньше, до всего дошедший самоучкой, он с трудом одолевал науку. Как он учился! Как голодал! Это знает только он: никому он никогда не жаловался. Чтобы не помереть с голоду, ходил на товарную станцию грузить вагоны. У него небогатые мускулы, случалось, он падал под мешками. Кто знал об этом? Харкающего кровью его унесли как-то с лекции. Он очнулся в больнице. Первое, что он попросил: «Принесите книги». Он хотел учиться; жадно, с мужицкой лихорадочной страстью он приобретал, копил знания. Уязвимый со всех сторон, воевал с закованными в латы науки консерваторами. Он мечтал скорее кончить вуз, броситься в работу, строить, делать, создавать — химия нужна стране. Однажды старик профессор, который любил и выделял Ершова среди вихрастой студенческой массы, поделился с ним своею идеей. Два года они с профессором втайне от всех работали в лаборатории. То были годы сомнений, неудач, тревог, обманутых ожиданий. Однажды после решающей неудачи старик не выдержал и разрыдался. «Мне осталось немного жить, — говорил он ученику, — зачем я жил? Я умру, не решив задачи». Тщедушный Ершов утешал его: «К сожалению, мы с вами глубоко штатские люди, Константин Васильевич. Солдаты рассуждают не так. Они умирают, но не сдаются». И вот сегодня, когда они победили, он, комсомолец, и старик профессор, когда их идея признана, для них будут строить завод, когда их труд увенчался таким успехом, его вдруг обругали карьеристом и шкурой. И это сказал ему человек, которого он искал и, наконец, нашел, чтобы с радостью и гордостью отрапортовать, как командиру: «Вы послали меня учиться, я выучился. Это было трудно, чертовски трудно. Но вот я победил. Я рад сказать вам об этом, ребята».
Задыхаясь, он говорил все это Гайдашу. Они говорили оба, вместе, все повышая голос, не слушая, не понимая друг друга. Они говорили на разных языках, но это был один язык — язык обиды.
Вдруг они разом оборвали спор, поняв, что говорить не о чем, залпом допили бокалы, молча рассчитались, каждый щепетильно, до копейки, оплатил половину счета, и, не простившись, разошлись чужими людьми.
Алеша вернулся в пустой и неуютный номер гостиницы. Он долго шагал по ковру, вспоминал, переживал свою сегодняшнюю беседу с секретарем Цекамола, разговаривал сам с собой, пробовал петь. Бросился на диван, хотел уснуть — не мог. Снова вскочил, стал смотреть в окно — оно выходило в темный и пустой двор. Со всех сторон к окну надвинулись мрачные громады домов. Вернулся к столу. Сел. Взял телефонную трубку. Кому бы позвонить? Подумал. Опустил трубку.
Звонить было некому. Раньше, бывало, чуть он только приедет в столицу, телефон в его номере начинает звонить беспрерывно. Находятся друзья, знакомые, девушки. Кому-то он нужен по делу, кто-то хочет зайти потолковать, третий зовет на вечеринку, в театр, в кино, четвертый просто хочет зайти пожать руку, поболтать. Сейчас телефон молчал. Один только раз вдруг брякнул звонок. Алеша бросился к трубке.
— Слушаю, — нетерпеливо закричал он.
— Проверка, — равнодушно ответил ему чужой голос.
Больше телефон не звонил. Откуда они узнали, думал Алексей о друзьях, о том, что случилось с ним в Цекамоле сегодня? Неужели уже все говорят об этом в городе? Как быстро исчезают друзья у человека.
Он больше не мог оставаться дома. Его тянуло на улицу, к людям. Одиночество пугало его. Это хуже, чем смерть.
Он выскочил на улицу и пошел куда глаза глядят. Он толкался среди людей. Вскакивал в трамвай, куда-то ехал и там, где сходило больше народу, зачем-то сходил и он. Он отдавался людскому потоку, и его волочило по улицам, вышвыривало на площади, втискивало в сады, скверы, прижимало к стенам. Как странно, что он не встретил ни одного знакомого. Раньше они попадались на каждом шагу. Наконец, он устал. В какой-то дымной, полутемной пивной, похожей на баню, он отдал якорь. Холодное пиво успокоило его. Он стал разглядывать людей, стены, столики.
За соседним столиком шумела какая-то веселая компания. По развязному поведению ее, по клетчатым бриджам и претенциозным костюмам, по специфическим остротам и словечкам, наконец, по их обращению с официантом Алексей сразу узнал в них киношников или журналистов — категории людей, которые он всегда ненавидел. Это были люди другого, нежели он, мира. Он испытывал к ним открытое недоброжелательство и затаенную зависть. Эти шумные, беспечные люди ни за что не отвечали, им все прощалось, они пили пиво, высоко подымая пенящиеся кружки, кричали «прозит!» и чувствовали себя здесь, в пивной на Екатеринославской, словно в мюнхенском гофманском кабачке, им казалось, что они, как герои Гофмана, сидят на пивных бочонках, они кричали, пели и смеялись, как следовало богеме. Знали ли они железные слова: «организация», «дисциплина», «выдержка»? Алеша выпил залпом кружку, отер горячие губы и вдруг спросил еще пива.
Читать дальше