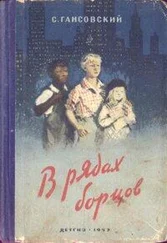Утром в 10.30 у Куйбышева идущий зеленой улицей почти без остановок состав прогрохотал длинным высоко висящим мостом над замерзшей, подернутой туманом Волгой. Мимо рабочих, ремонтирующих путь, пронеслись теплушки, заполненные ладными, крепкими ребятами-сибиряками. Все шли и шли такие составы на запад. Вдыхая запахи мазута, пара и машинного масла, рабочие смотрели на вагоны. Успеют ли?
Звуки трех выстрелов подряд настигли майора с ординарцем уже на противоположной окраине городка.
— Что-то у лейтенанта, — сказал ординарец, останавливаясь.
Поле, окаймленное темными лесами, расстилалось перед ними. В ста метрах впереди дорога поворачивала под прямым углом и там дальше ее сжимали холмы. Луна скрылась за горизонтом, едва заметно побелел край неба.
— Ну ладно, Моисеенко, — сказал Токарев. Он тоже едва держался на ногах — не спал около двух суток. — Иди в полк, скажешь, чтоб Самойлов выводил людей на отметку сто десять, вон к тем холмам. Я эти места знаю. Размечу позиции для батареи. Буду вас встречать, когда выходить начнете. Давай, Моисеенко. Давай.
Он направился к холмам по целине, сразу увяз и подумал, что немецкие танки с их узкими гусеницами тут не пройдут, вынуждены будут жаться к дороге.
Выстрелы у Федорова не обеспокоили майора, он был уверен, что там все будет в порядке.
Лейтенант Федоров с двумя бойцами подбежали к зданию почты, как раз когда Нина поднялась из оврага, волоча за собой по снегу тяжелый, туго набитый вещмешок.
— Что случилось?.. Кто стрелял? Соловьева, ты?
Она безразлично сказала:
— Ефремов застрелился. Струсил и застрелился. — И прошла мимо бойцов в подвал, будто не видя их, белая, без кровинки в лице.
— А черт! — Лейтенант бросился тропинкой вниз.
Нина швырнула вещмешок в угол к стене. Он грохнулся тяжко, со звоном возле Евсеева, и тот, проснувшись, сразу сел, осматриваясь.
— Что — начинается?
Санинструктор, глядя в сторону, ответила равнодушно:
— Спи пока. Не началось еще…
Евсеев кивнул успокоенно и улегся. Опытный солдат, он воевал, начиная от границы, и знал, что, если есть возможность поспать, упускать нельзя, потом не отдадут.
Лейтенант бегом скатился в подвал. Он был ожесточен: чепе — чрезвычайное происшествие! А ведь все как будто начало складываться хорошо: правильно он определил, когда прекратить отход, точно выбрал позицию для обороны, верным было решение разделить бойцов на две группы. И вдруг на тебе — Ефремов оказался ненадежен. Настоящий командир не допустил бы такого.
Он приступил к Нине.
— Слушай, Соловьева, как это получилось? И ты почему с ним была?
Бойцы опять набились в подвал. Клепиков шагнул к вещмешку старшины, проворно развязал затянутый шнурок на горловине.
— Ну-ка, поглядим, чего у него там.
Он вывернул содержимое на пол, в разные стороны покатились, звякая, какие-то часы, кольца, портсигар, кофточки, мех. Действительно, подготовил себе Ефремов кое-что на первое время, но теперь оно уже не могло ему пригодиться.
Кто-то ахнул.
Клепиков машинально, не замечая, обтер ладони о шинель. Ему представилась рука убитого командира, лежащего в окопе, и то, как Ефремов, ловкий, ладный, опасливо озираясь узкими глазами, снимает с мертвого запястья часы.
— Он, выходит, гад, грабил. С убитых снимал и шарил по домам.
Лейтенант, обойдя стопку одежды, шагнул к Нине.
— Не может быть, чтоб он сам застрелился, Соловьева. Не может этого быть.
Она, опустила голову, но промолчала.
Миша Андреев ошеломленно спросил:
— Значит, ты… Значит, ты его убила?
У нее вздрогнули плечи, и вдруг все увидели, что она давно уже плачет. Она старалась сдержаться, но рыдания рвались — в них был страх, который пришлось превозмочь, решимость, которой надо было набраться, чтоб выстрелить в человека. Не издалека ведь, а рядом, не в гитлеровца, а в русского, своего.
Миша осторожно взял ее за плечо:
— Не плачь, не надо.
— Отстань, студент! — Она отбросила его руку. Никто ее тут не понимал, кроме лейтенанта, одобрительный взгляд которого она замечала порой, когда принималась дразнить бойцов и вызывать их на шуточки. Только он, может быть, смутно догадывался, что с ним пополам она взяла на плечи главную тяжесть отступления, что вместе они несли что-то такое, чего-растерять нельзя. А уж Миша-то совсем ничего не в состоянии был почувствовать. Почти как Ефремов верил, что ей, кроме платья из панбархата, ничего не надо. И самое обидное в том состояло, что именно он ей нравился. Она гневно повернулась к нему.
Читать дальше