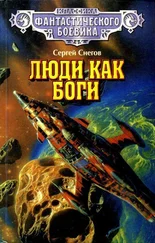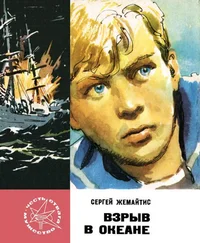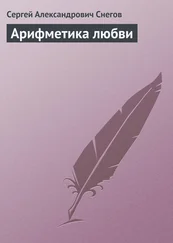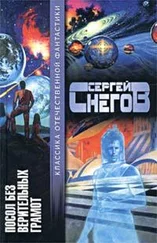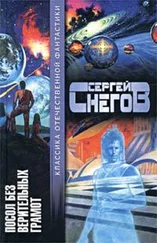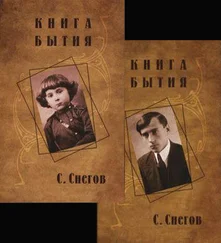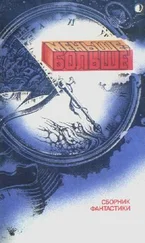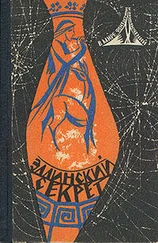Арсеньев остался верен себе, он облекал в логически совершенные формулировки явившиеся ему мысли, менял и оттачивал эти формулировки, добивался их предельной точности. В один из дней он позвонил Мациевичу и попросил консультации. Это была его первая просьба о встрече. Они сидели один напротив другого, подтянутые и серьезные, внешне похожие и внутренне разные. Мациевич вежливо ожидал вопросов, Арсеньев не торопился их задавать — он все снова проверял их в уме.
— Дело вот в чем, — заговорил он наконец. — Я продолжаю считать, что основной причиной взрыва было отсутствие заземления на шахте. Против этого выдвинуты очень основательные возражения, и мне пока не удается их опровергнуть. Если бы я сумел доказать, что в шахте имеются проводники среди непроводящих пород, тайна перестала бы быть тайной. На рудниках, расположенных рядом с вашей шахтой, такие проводники имеются — рудные жилы. А что такое рудные жилы? Выплески и потоки глубинных веществ земли, прорвавшиеся наружу сквозь точно такие же мерзлые породы, как и на вашей шахте. Так вот, нет ли на шахте аналогичных рудных жил или чего-нибудь подобного? Я уточняю мой вопрос: можете ли вы указать мне застывшие потоки лавы, прорезавшие основную толщу породы на шахте? Возможно, некоторые из этих лавовых потоков окажутся проводящими.
Мациевич подробно ответил на все вопросы Арсеньева. Да, конечно, интрузии, то есть застывшие потоки, прорвавшиеся из недр земли, в их шахте имеются. Но это вовсе не те рудные интрузии, которые встречаются на рудниках. Природа их совершенно иная, интрузия на шахте — это жилы непроводящей породы. Примерно три миллиона лет назад, когда уже давно был завершен процесс образования каменных углей, в их крае развилась мощная вулканическая деятельность. В нескольких километрах отсюда из земных глубин прорвалась рудоносная магма, застывшая жилами и рудными телами. А в районе шахты сквозь пласты угля выливался расплавленный диабаз. Застывая, он образовывал широкие стены и перегородки, рассекающие угольные пласты. Эти выплески диабаза называют дайками. Таких диабазовых даек на шахте пять, самая мощная из них пересекает как раз семнадцатый квершлаг в том месте, где он выходит на угольный пласт. Одно он, Мациевич, может сказать, поскольку это интересует Арсеньева, — проводимость диабаза ничтожно мала, еще меньше, чем у мерзлых наносов и угля.
— Я очень благодарен вам за ясное и исчерпывающее объяснение, — проговорил Арсеньев, всматриваясь в вежливое и спокойное лицо Мациевича. — Но так как вопрос этот бесконечно важен и, надеюсь, в нем одном лежит решение всей проблемы, то я хотел бы сам взглянуть на диабазовую дайку в семнадцатом квершлаге.
— Если разрешите, я провожу вас туда, — предложил Мациевич.
Арсеньев уже не помнил, в который раз он спускался в этот квершлаг — узкий и тесный ход, прорезанный в толщах пород. На этот раз они не остановились ни у суфляра, продолжавшего выбрасывать рудничный газ, ни у места взрыва. Они пошли дальше, ко второму выходу из квершлага, где начинался угольный пласт. Крепь в этом месте не была установлена: твердые породы не нуждались в креплении. Арсеньев долго осматривал дайку, он передвигался вдоль нее по сантиметрам — он знал, что где-то здесь таится решение загадки. Мациевич помогал ему светом своего фонарика.
Диабазовая дайка представляла полосу шириною в шесть-семь метров, с одной стороны она рассекала смесь породы с углем, с другой — упиралась в чистый уголь. Яркая желтизна диабаза резко выделялась на черном фоне пласта. Линия разграничения породы и угля была так ровна и четка, словно ее проводили карандашом по бумаге. Сам диабаз в данную минуту мало интересовал Арсеньева — он ничем не отличался от других образцов этой породы и, очевидно, был таким же малопроводящим. Но перед углем он остановился. Он увидел то, что раньше проходило мимо его внимания. На расстоянии метра-двух от дайки уголь ослепительно вспыхивал в свете фонаря, его блестящие, словно лакированные грани, несмотря на покрывающий их легкий иней, зеркально отражали свет. Но по мере приближения к границе дайки уголь тускнел, становился матовым. У самой дайки он походил на плотную, лишенную блеска сажу.
— Почему так меняется цвет угля? — поинтересовался Арсеньев.
— Уголь на границе с дайкой сильно изменил свою структуру, — объяснил Мациевич. — Расплавленный диабаз прорывался сквозь угольные пласты под большим давлением и при высокой температуре. Естественно, что в местах контакта с диабазом уголь уплотнился и подгорел. Для промышленного использования этот метаморфозированный уголь малопригоден, мы обычно его не выбирали…
Читать дальше