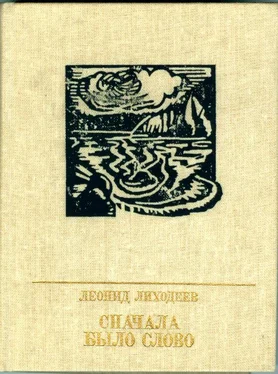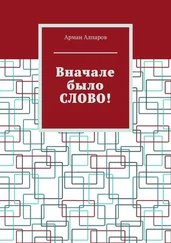Степан Ильич наморщил лоб, как от головной боли:
— Историю России знаете?
— Понаслышке, — ответил за отца Проскуров.
— То-то и оно… В России народ всегда и ликовал, когда боярские головы летели. Кабы не бояре — давно бы мужик на печи лежал в охотку. Вот какое было мнение народное. А бояре-то наши были глупы отродясь. Им бы сговориться — царя в уезде держать по-европейски. Не сговорились. Вот и жнем!
История России в устах Степана Ильича звучала вовсе не так, как отложилась в молодой свежей памяти Петра Заичневского. Ему казалось, что и история этому барину — всего лишь предлог для ехидства.
Побрюзжав вокруг истории, Степан Ильич вдруг объявил:
— Кликни сегодня государь: «Работайте, дети!» — и что? В затылке поскребут. А кликни он: «Режь помещиков!» — и пойдет потеха! Вот чего я опасаюсь! Не живота лишиться, нет. Бог не выдаст — свинья не съест. Гили боюсь! И глядите-ко, как поповичи подговаривают царя супротив бояр! «Современник»-то, а? Ишь как стелет. Ты-де, государь, — не иначе, как Людовик Святый! Ришелье! Дави феодалов, как тараканов! Режь аристократов! Грецкие тираны да римские императоры вышли не из ризницы, а из предводителей народной ватаги! Вот перо какое, сударь мой! Рогатина! Что там Искандер!
— Да погодите, Степан Ильич, не так он вовсе пишет, — возразил Петр.
— Нет, так!
— Но как вы сами себя аттестуете с вашим кнутобойством? Ведь это же — варварство!
— Варварство, милостивый государь, рожном землю козырять! — крикнул на отрока Степан Ильич. — И лебеду жрать! Варварство — водку трескать и в лаптях ходить по чернозему!
— Но мужик не свободен! Потому он…
— У меня свободен! А освободи от моей лозы — по миру пойдет! Народу нужна сила, умный барин, не транжира, не игрок картежный — отец!
— Да где же вы этого умного барина возьмете? — примирительно спросил Проскуров.
— В том-то и горе наше, — неожиданно сник Степан Ильич и даже губу опустил по-стариковски.
Петр, ожидавший едкого острословия, удивился и ощутил привычную для молодых людей досаду неожиданного проигрыша. Он едва не пожалел, что надерзил старику, — столь беспомощным показался Степан Ильич, волк, Пеночкин.
Проскуров словно дождался, пока старик сникнет, заговорил о Европе, о западном влиянии, о том, что воленс-ноленс и нам приспела пора усвоить гуманизм и не чуждаться новых веяний.
— Приобщиться к неведомому…
— Это вы напрасно, сударь мой, — вдруг взбодрился Степан Ильич. — Русский человек кидается за чужой мудростью не оттого, что своей нет, а оттого, что чужая запретна. Дозволь чужую мудрость — он и плюнет на нее: эка невидаль! Вы приглядитесь — он ведь первым делом норовит чужую мудрость обрядить своим армяком! Ему и Кавур — не Кавур, и Прудон — не Прудон, ему Черт Иваныч нужен, свой, исконный.
— Однако, непременно, чтоб жантильом, — не сдавался Проскуров.
— Да кто вам сказал?
— Однако читаем мы и Милля, и Смита, и Монтескье…
— И на здоровье! Толку-то?! Нам какой немец по нутру? Тот, который топор поднял! А как увидим, что топор поднят не головы рубить, а сруб класть — так мы и радуемся: немец-немец, а дурак! Не знает, что топором-то делать!.. Вот вам и вся чужая мудрость! Европа нам не указ. Она уже двести лет, как пошабашила, а мы только во вкус входим.
— Какие двести лет, — возмутился Проскуров. — Французская революция только что была!
— Батюшка Селивестр Николаевич, — сказал Степан Ильич, — жантильомы и у нас бывали. Аккурат после отечественной войны-с. Нагляделись, как французский мужик салат с винегретом кушает да анжуйским запивает, позавидовали: нашему бы Ваньке этакое меню! Да как раз в Сибирь и поехали! Потому что у нас без битья нельзя. У нас и понятия такого нет, чтобы — без битья! Европа царей-то во-он когда окоротила! Там у них власть публике служит. А у нас, ежели власть только вздумает публике служить, публика, первым делом, такую власть за водкой посылать станет! Что это за власть, ежели не сечет?
— Но то, что вы говорите — дико!
— Дико-с! А Стенька Разин лучше? А Емелька Пугачев — лучше? Вы еще увидите, что мы с этим нашим жантильомом сделаем — отпусти он бразды! Мы же его со света сживем!
«Это он про царя!» — радостно вспыхнул Петр.
— Стало быть, вы еще двести лет будете сечь мужика? — насмешливо спросил Проскуров, делая вид, что не понял про царя.
— Буду! Пока не разбогатеет! А разбогатеет — поумнеет. Тогда и у нас жантильомы объявятся безбоязненно…
Гимназия окончена была с серебряной медалью за благонравие и отличные успехи.
Читать дальше