Тот, насупившись, рылся в бумагах.
— Иван Ильич, куда Антонова уехала?
— По слухам, на Урочную.
— Кто коров доит?
— Дочь.
— Значит, мать ждет, — с облегчением вздохнул Низовцев. — Да, разучились мы, Иван Ильич, говорить с людьми.
— Может, ты, Андрей Егорыч, разучился, не спорю. После того как сбежала передовая доярка, после того как мне вот выговаривает второй секретарь — там уже знают, — он кивнул на телефон, — я могу поверить, что ты разучился говорить с людьми.
Низовцев побагровел, отступил к двери и, сдерживая себя, попросил:
— Иван Ильич, вернется Антонова из бегов, пожалуйста, побеседуй с ней.
Вскоре после холодных дождей Егор попросил у Грошева лошадь съездить на Урочную за шифером. Шиферу Егору не удалось купить, и он, злой, стал собираться домой. У вокзала он увидел Прасковью. Куда злость делась, закричал на всю прогонную улицу:
— Паша, ты случаем не домой?
— Ага, — сказала она, подходя к подводе, — возьмешь?
— Пашка, черт, скучаю по тебе, сам шебутной, но баб люблю хороших. — Егор обнял ее. Она вырвалась.
— Огонь ты, Егор, а живешь с болотной лягвой.
— Постой тут, за лошадью пригляди, — заспешил вдруг, — я в магазин сбегаю.
— Беги, беги, — насмешливо сказала Прасковья, — до аптеки сшастай, поди, Саньке порошков позабыл купить.
Прасковья сощурилась: «Много мы, бабы, для мужиков значим: ишь как Егор переменился!» Ее разморило от духоты. Казалось, что на Урочной и улицы топят: кругом дома, станция завалена бревнами, белым кирпичом, удобрениями; красной стеной тянутся вагоны, и, вдобавок, угарно чадит старый маневровый паровозишко; и песок, кругом песок, от него, должно, и духота — накалился так, что не ступить босой ногой.
Егор вернулся со свертками, с оттопыренными карманами и папироской в зубах. Прасковье сунул горсть карамелек.
— Садись, — тронул лошадь и на ходу прыгнул в телегу. Колеса вдавливались в податливый песок. Лошадь шла тяжело, медленно. Прасковья сняла платок, собрала волосы в пучок, зашпилила. Прощай, Урочная! Припала к охапке свежей травы, приторно пахнущей ромашкой. Вот и опять домой. Зачем? Ведь думала пристать на Урочной. Была на кирпичном заводе, но не по душе пришлась работка — выкатывать вагонетки с горячими кирпичами. И зарплата, что там за зарплата по сравнению с заработком доярки — ерунда! На промкомбинате тоже не понравилось. И этот песок всюду, топкий, вязкий, в холод от него знобит, в жару палит, как из печки.
Выехали за пристанционный поселок, кончился песок. Колеса завертелись легче, лошадь пошла шибче. «Какая чертовщина эта привычка, — думала Прасковья, — две недели на станции прожила, а коровы все мерещатся. Вдруг причудится Заря позади — «муу!», оглянется — никакой коровы; затем стали сны надоедать; будто она, Прасковья, спешит на дойку и все опаздывает, коров угнали в луга — она тужит: ведь не доены, испортятся, и что дядя Матвей их угнал?»
— Кому передали моих буренушек? — спросила с затаенным волнением.
Замахиваясь кнутом на лошадь, Егор оглянулся.
— Обходятся без тебя. Твоя дочь всех доит.
— Не гони, толком расскажи, не одна же?
— Я все сказал: одна справляется. Она лютая.
«Значит, им доченька помогла без меня обойтись, значит, не почувствовали они, как хорошую доярку обидеть. Ладно, посмотрим, что у нее получится», — с обидой подумала Прасковья, стала смотреть по сторонам.
Дорога шла ржаным полем. Седоватые волны плыли и плыли по нему до самого леса, качался на хлебах лас-кун ветер. Прасковья затуманенными глазами глядела на рожь и не замечала, что Егор не сводит глаз с нее.
— Однако ты вспотела, — не выдержал Егор и провел по ложбинке, касаясь ее груди.
Прасковья отвела его руку.
— Ласку Саньке побереги: ты же слово Низовцеву давал.
— Пошли они знаешь куда! — обозлился Егор и хлестнул лошадь. Колеса быстро заныряли в ухабы. Трясло.
— Нечего посылать. Сам Саньку подыскал.
— Кабы я.
— А ты без головы был? — сердито сказала Прасковья. — Ну, живи, живи с Санечкой-душенькой, живи, к другим не лезь.
Прошлое обожгло, обуглило румянцем щеки. Когда Егор демобилизовался из армии, специальности у него не было. Устроился на ферму кормовозом. Там и сошелся с Прасковьей. Прасковья была старше Егора на два года, да и росла у нее дочь, поэтому не мечтала, что он женится на ней, но и не отпугивала. Однажды Прасковью спешно увезли в коневскую больницу с гнойным аппендицитом. Анна Кошкина, решившая давно выпихнуть из дому младшую сестру Саньку, толстую ленивую девку, сдружилась с сестрой Егора Любкой-Птичкой, стала ей и матери ее нахваливать Саньку.
Читать дальше




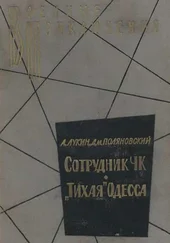
![Александр Борисюк - Тихая деревня [СИ]](/books/412501/aleksandr-borisyuk-tihaya-derevnya-si-thumb.webp)

