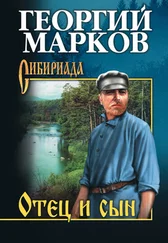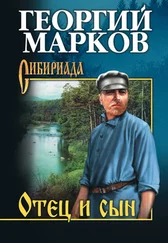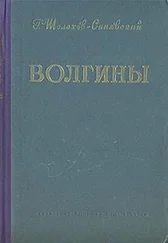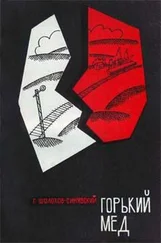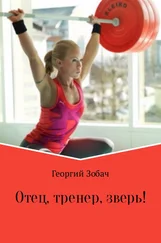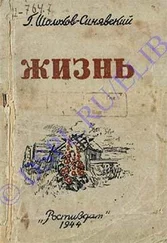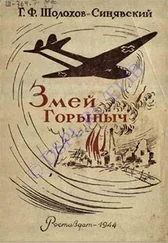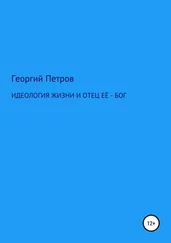Зимой Адабашев носил меховую бекешу или полушубок и кудлатую баранью шапку. В своих частых разъездах по степи не расставался с длинным, аршина в три, арапником с набором из ременных кистей и медных колец. Его он пускал в действие и против собак и против людей — кто попадался под горячую, не по-стариковски сильную руку. Разовьется молниеносно со свистом над головой провинившегося длинный кнут и с оглушительным щелканьем, напоминающим пистолетный выстрел, опустится на спину, а то и на голову зазевавшегося батрака или пастуха, и сразу же взбухнет на коже багрово-синий, толщиной в палец, рубец, а если — с потягом, то, случалось, и лопалась, не устаивала против ремня человеческая кожа, и тогда горячей алой росой брызгала на землю кровь…
Старик не знал ни русской, ни армянской грамоты. Много лет, пока наживалось хозяйство, вся бухгалтерия и документация на «движимое и недвижимое» имущество хранилась в боковом кармане его засаленного жилета, и только когда капиталы выросли до сотен тысяч рублей, а имущество и всякая живность расплеснулись по всему Приазовью, как мутная полая вода, завел он контору и стал доверять все расчеты и денежные дела управляющему, хорошо грамотному армянину.
И вот этот закорявевший, как пень в лесу, пропахший овчиной и бараньим салом, неграмотный помещик, невесть как разбогатевший и все-таки не гнушавшийся сесть вместе с чабанами за котел с кашей, ночевать вместе с ними под открытым небом, вдруг распорядился разбить в саду и вокруг степного дома цветочные клумбы, посадить дорогие декоративные растения, построить оранжерею, а аллеи посыпать желтым, завезенным из дальнего карьера песком.
Он завел английских и арабских скаковых лошадей, орловских рысаков, ценой в десятки тысяч рублей каждый, нанял тренеров и жокеев, участвовавших во всех крупных дерби, и брал первые призы в состязании со знаменитыми на всю Россию конными заводами и коневладельцами.
Почему же взбрело такое в голову Марку Ованесовичу? Почему ему, неотесанному мужику, захотелось тягаться в роскоши с уже вымирающими владельцами дворянских гнезд?
Причина, как утверждают ученые люди, заключалась в том, что поветрие, охватившее крупных землевладельцев, взошедших, как опара, на месте разорявшихся дворянских поместий, распространилось и на юг, в дикие степи. На смену хиреющим дворянам шел хищник, напористый и грубый, с волчьей хваткой. Это он прибирал к рукам помещичью землю, утверждал на ней свою власть, набивал целковыми мошну. Это, ему хотелось «пустить пыль в глаза», покуражиться — «знай, дескать, наших» и «моя-де копеечка не щербата», блеснуть безвкусной роскошью.
Богатеи, вроде Адабашева, ставили в городах унылые особняки, заводили поместья, а в них — порядки, уродливо копирующие уклад изысканных, приходящих в упадок поместий родовитых дворян.
Но не только это заставило старика Адабашева пуститься в несоответствующее его нраву расточительство. Рассказывали, будто наивно-трогательная отцовская любовь к баловнице дочери и сыну, вращавшимся в кругу тогдашней «золотой» молодежи — отпрысков нахичеванских и ростовских финансовых воротил, попутала старика, и он, потворствуя капризам детей, завел в своем имении ненужные излишества.
Однако дочь и сын приезжали в хутор только изредка. Все потуги старого Адабашева на подражание шику ростовских миллионщиков — Парамоновых, Переселенковых и Асмоловых — казались грубой подделкой. Юные наследники фыркали, томились степной скукой и уезжали в город, чем приводили старика в недоумение и неистовую ярость. Этим неженкам и баловням судьбы не нравились ни орловские рысаки, ни угрюмый, сложенный из серого камня дом под железной крышей, в одной из комнат которого жил с семьей управляющий, ни любовно выхоленные садовником цветники — все казалось им не настоящим, не таким, как у тех молодых богачей, с которыми они водили дружбу.
Подражание и манерничанье были присущи всей семье Адабашевых, за исключением, пожалуй, старика: он один оставался самобытным со своими дрожками-бегунками, арапником, сатиновым жилетом и сыромятными постолами; он презирал всю блажь и бирюльки, которые вынужден был в угоду дочери и сыну завести в имении. И не кони, выезженные для верховой дамской езды, с сафьяново-бархатными седлами и поводьями, и не цветочные клумбы были ему нужны, а только овечьи отары, тонкорунная мериносовая шерсть, пшеница и другая сельскохозяйственная продукция, отправляемая каждую осень обозами в город.
Читать дальше