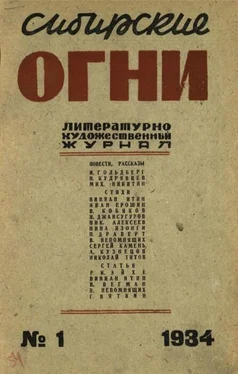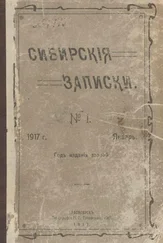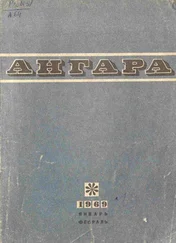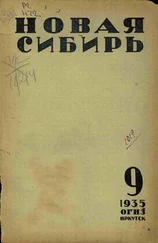— Ох, и жаден Медведев до земли! Он бы ее, кажись, заместо хлеба ел! Работу да землю пуще бабы нежит!..
Балахня — та часть деревни, где испокон веков ютилась беднота, — знала, пожалуй, лучше других Власа. С Балахней Влас дружил. Но дружил как-то ворчливо и с попреками. Балахонцам Влас не раз выговаривал:
— Этта што? Этта разве хрестьянство?! Да вы что, язвенские такие, на ноги не подымаетесь?! Обстраивать жизнь надо ладнее!
И балахонские мужики или смущенно отсмеивались, или вспыхивали:
— Не шабаршись!.. Нам, обожди, только зацепку дай!.. Только зацепку дай, дак мы не хуже других развернемся!..
4.
В восемнадцатом году Влас уходил в тайгу партизанить. Две роты красильниковцев, три дня простоявшие в Суходольском, напоили его злобой и негодованием. Он вытащил из-под амбара винтовку, снарядился по-таежному, по-охотничьему и ушел привычной звериной тропою в укромную тишину тайги.
Месяцы, опаляющие, кровавые месяцы, бродил он вместе с другими мужиками по тайге, скрадывал, выслеживал вражеские отряды, делал набеги на железнодорожные станции, портил пути и бил, бил из верной винтовки врагов.
— Земля! — горел он в часы затишья у костра, когда бойцы устало курили прошлогодние листья и траву вместо махорки, и думали о вчерашнем, о домашнем, о привычном.
— Земля! Моя она!... Слободная!.. Я ее своими вот этими руками первернуть могу. Мне только дай ее! Не мешай!..
— Земля!.. — вспыхивал кто-нибудь из товарищей, заражаясь власовым возбуждением. — За что и бьемся!..
И Влас, облегчив свою душу гневным порывом, мечтательно и примиренно говорил о том, как можно, если нет помехи и препон, разворотить землю, обласкать ее трудом, заставить ее обильно и легко родить. В серых глазах его тогда плавились тихие искорки. Серые глаза его видели тогда за пляшущей и безвозвратно умирающей в вышине огненной пылью костра густую, бархатную чернь земли, тщательно причесанную бороною. Видели зыбкую, густую заросль пашни, бурое, тусклое золото зреющего и томящегося под солнцем хлеба, марево над полями и живой, горячий и пахучий ток вспыхивающих сверкающей пылью зерен. Видел золотое обилие хлебов, обставленный хозяйственными и обширными службами двор, веселый и сытый скот, высокие остожья соломы на гумне и радостный трудовой гул над избами, над ладонью, где стрекотали молотила, где выколачивалось ядреное, спелее, рассыпчатое зерно.
— Отобьемся, — мечтательно говорил он в угрюмое и задумчивое затишье, прильнувшее к костру, к товарищам: — отшибем гадов и ворочаемся по домам, к роботе! К роботе, ребята!...
И твердым, сочным и исполненным веры и силы и мужества было это его:
— К роботе!
В восемнадцатом году, истомленный огневой страдою, исходив по тайге не мало горячих и тяжких дней по затаенным, украдчивым тропам, Влас накопил в себе мужичью жадность к земле, нетерпеливое ожидание мирного труда, неутолимую жажду спокойного хозяйствования.
И когда остатки колчаковцев сгинули где-то за Байкалом и можно было вернуться ко дворам, к стылой, заброшенной земле, Влас накинулся на работу как полоумный, как одержимый. Работы было много, хозяйство пришло в упадок. Хозяйство надо было подымать, спасать. Влас вошел в работу целиком. Его оторвали было, выбрав в сельсовет, но год работы в сельсовете был для Власа мучительной, ненужной обузою, уводившей его от земли, от пашни, от двора. И на следующий год он уже не пошел служить обществу. Никуда не пошел, ни на какую общественную работу, — без отказу отдал себя своему хозяйству, своему крестьянствованию.
И в результате жадной и упорной работы земля стала приносить плоды. Обласканная и обихоженная неустанными и тщательными трудами, Власу она принесла много плодов. Хлеб в его амбаре заполнил все сусеки. Хлебом Влас стал богат.
И вот тогда-то за этим хлебом пришли. Ничего не спрашивая, не допытываясь, каких усилий и мук стоил он Власу, сказали:
— Сдавай, Медведев, государству!... Рабочим!
Влас потемнел, но безропотно повел пришедших в амбар.
— Вот он тут, весь! — тая в себе огорчение и холод неприязни, показал он.
— Не прячешь? — усмехнулся кто-то из сельсоветчиков.
— Я не прячу! — с гневной обидой крикнул Влас. — Моего такого характеру нет, чтоб прятать!.. Весь он тут, хлеб!
— Он не спрячет! Нет! — подтвердила сельчане. И крепче и уверенней всех подтвердили балахнинские жители.
В те годы многие вывозили хлеб тайком из амбаров, прятали его по ямам, хоронили от властей, от государства. В те годы у зажиточных, оборотистых и крепких мужиков закипала густым хмельным, бурлящим наваром злоба на новых правителей — за разверстку, за отобранный хлеб, за вывозимое со дворов богатство. В те годы в деревнях острее и обнаженней пошел разлад: откололись от деревни, от мира богатеи, приобретатели, кулаки, стала шумливей, смелей и горластей беднота. И беднота, голь рваная, наседала на богатеев, шныряла по дворам, по амбарам и по гумнам, выволакивала спрятанное, утаенное. Беднота, скатившись с грязной, обтрепанной, неустроенной Балахни, потрясла озорно, крикливо и беззастенчиво совсем уж было наладившийся по-хозяйственному и почти по-старому, домовитый уклад крепких, оборотистых мужиков.
Читать дальше