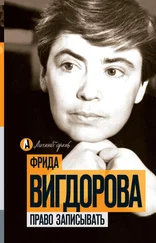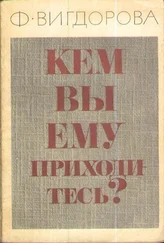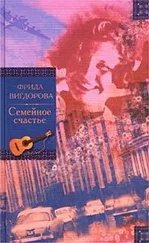Он читал Герцена, топил печку, жег в лесу костер… Разговоры с Петром Николаевичем были тягостны, мысли о Москве — темны. И одновременно с этими мыслями в нем шла тайная и радостная внутренняя работа. Он все время ждал неожиданного телефонного звонка, письма, телеграммы. Ведь на прощанье она сказала весело: «Вот возьму и приеду». Значит, могла позвонить по телефону. Или даже постучать в дверь. И он бегал на все телефонные звонки и кидался к двери на каждый стук. Кроме того, он писал письма. Он никогда никому так длинно не писал. Он рассказывал ей обо всем, что случалось за день (хотя, в сущности, ровно ничего не случалось). Он рассказывал ей каждую мысль, которая приходила ему в голову (хотя о главном, что его тревожило, рассказать в письме не мог). Он выкладывал ей все до мелочей, но к вечеру оказывалось, что не сумел сказать ей и малой доли того, что хотел. И снова садился за письмо.
— Чудак ты, ваше благородие, все письма пишешь. А я в твоем возрасте объяснялся в любви устно — все-таки меньше орфографических ошибок, — говорил Петр Николаевич. — Покажи карточку. Глаза святые, а губы…
— Грешные?
— Ну зачем? Человеческие.
Едва проснувшись, Сергей бежал к почтовому ящику. День без письма от нее был пуст и безнадежен. Но такие дни случались редко. Она тоже писала по два-три раза на дню, ее письма тоже напоминали дневник.
Каникулы кончались… Поезд на Москву отходил через час. Сергей щелкнул замком чемодана и оглядел комнату: не забыл ли чего?
Дверь отворилась.
— Пляши! — сказал Петр Николаевич и помахал конвертом.
— Дайте!
— Нет, пляши!
Сергей прошелся вприсядку, получил письмо и нетерпеливо разорвал конверт:
«Сережа, когда приедешь в Москву, не разыскивай меня, — писала Варя. — Нам больше нельзя видеться. Костя стрелялся, его едва спасли. Он еще в больнице. Его мать вызвала меня телеграммой. Она говорит, что, если я не выйду за него замуж, он все равно покончит с собой. Мне счастья не будет. Мы с тобой не сможем быть счастливы, если он умрет. Ты это и сам понимаешь. Из института я ушла…»
Конечно, Сергей разыскал ее. Крепко держа ее за руки, он говорил:
— Что ты делаешь? Подумай сама. Что ты делаешь?
— Молчи. Я все равно не смогу быть счастлива, если… если он умрет.
— А если я?..
— Нет, ты этого не сделаешь. Нет! Нет!
Она была права. Даже в ту минуту крушения и ужаса он знал, что рук на себя не наложит.
— Он поступил бесчестно, — сказал Сергей.
— Молчи!
— Он поступил подло, я не отпущу тебя.
— Я обещала ему… Поклялась, что никогда его не оставлю…
А ему, Сергею, она клялась? Нет. Они не произносили никаких клятвенных слов. Все разумелось само собой: любовь навсегда. Верность до гроба.
Как давно он не вспоминал обо всем этом, как давно. Не вспоминал. Забыл. И только одно осталось от тех дней: отпирая входную дверь, он всегда смотрел, не белеет ли конверт в круглых, как иллюминаторы, отверстиях почтового ящика.
* * *
Поезд на Москву должен был прийти в полночь. Когда откроется касса, никто не знал. Очередь выстроилась длинная. Сидели на лавках, на чемоданах, стояли, прислонясь к стене. Изредка отлучались, строго предупредив: «Я за вами». А потом пригляделись, запомнили друг друга и перестали предупреждать. Сергей наизусть знал чью-то клетчатую спину в застиранной ковбойке и потную спину в белой рубашке и длинную шею высокого худого парня — этот прилип к самому окошку, неотлучно и неотступно стерег свою первую очередь.
На скамьях спали дети. И женщины, казалось, спали. Но то и дело шарили рукой — тут ли мешок? Нащупывали носками башмаков свой чемодан, корзинку или другую кладь. Время от времени — и всегда внезапно — по радио раздавался оглушительный отрывистый голос. Было ясно, он что-то приказывает, только не разобрать, что надо делать. Однако едва из черной тарелки репродуктора вырывалось неразборчивое командное карканье, как все срывались с мест, будили детей, хватали вещи и сломя голову куда-то бежали.
Так же внезапно неразборчивое карканье умолкало, и все безропотно и обреченно возвращались на прежнее место. За день так было раз пять-шесть. Сейчас в зале застыла сонная покорная тишина. Было душно. Широко открытые окна не выручали — вечерний воздух, битком набитый вокзальными запахами, стоял неподвижно. В одно из окон заглядывал белый сиреневый куст, но и он, казалось, пахнул только машинным маслом и тухловатой рыбой.
На деревянном низком чемодане притулился маленький старичок и тихо рассказывал:
Читать дальше