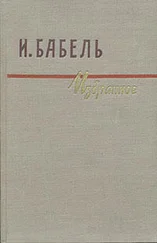Римма приложила голову к ее чуть вздутому, нежному животу.
– Не бьется, – ответила она. – Все равно. Сомневаться нельзя.
– Я умру, – прошептала Алла. – Вода обожжет меня. Я не выдержу. Не надо щипцов. Ты не знаешь, как делается.
– Все так делают, – проговорила Римма. – Не хнычь, Алла. Не рожать же тебе.
Алла собралась уж сесть в ванну, но не успела, потому что в эту минуту прозвучал незабываемый, тихий хрипловатый голос матери:
– Что вы делаете, дети?
Часа через два Алла, укутанная, обласканная и оплаканная, лежала в широкой кровати Варвары Степановны. Она рассказала все. Ей быто легко. Она казалась себе маленькой девочкой, у которой быто смешное детское горе.
Римма бесшумно, безмолвно двигалась по спальне, убирала, сварила матери чай, заставила ее поужинать, сделала так, чтобы в комнате было чисто. Потом зажгла лампадку, в которую недели две уж забывали влить масла, разделась, стараясь не шуметь, и легла рядом с сестрой.
Варвара Степановна сидела у стола. Ей видна была лампадка, темно-красный ровный пламень ее, тускло озарявший Деву Марию. Опьянение, как-то странно и легко, бродило еще в голове. Девочки скоро заснули. У Аллы было белое, большое и спокойное лицо. Римма приникла к ней, вздыхала во сне и вздрагивала.
Около часу ночи Варвара Степановна зажгла свечу, положила перед собой листок бумаги и написала письмо мужу:
«Милый Николай! Сегодня приходил Мирлиц, очень порядочный еврей, а завтра будет господин, который дает деньги за дом. Я думаю, что поступаю, как следует, но становлюсь все беспокойнее, потому что не полагаюсь на себя.
Я знаю – у тебя свои огорчения, служба, и не надо бы об этом писать, но дом наш, Николай, как-то не налаживается. Дети становятся взрослыми, жизнь нынче многого требует – курсы, стенографию, – девочки хотят больше свободы. Нужен отец, накричать, может быть, нужно, но на меня нечего полагаться. Мне все кажется, что это была ошибка – твой отъезд на Камчатку. Будь ты здесь, мы переехали бы в Староколенный, там очень светлая квартирка сдается.
Римма похудела и дурно выглядит. Целый месяц брали в молочной, напротив, сливки, дети очень поправились, но теперь перестали брать. Печень моя то дает себя чувствовать, то не болит. Пиши чаще. После твоих писем я остерегаюсь, не ем селедок, и печень не тревожит. Приезжай, Коля, мы бы отдохнули. Дети кланяются. Целую тебя крепко. Твоя Варя».
То, что это царство книги, чувствуется сразу. Люди, обслуживающие библиотеку, прикоснулись к книге, к отраженной жизни и сами как бы сделались лишь отражением живых, настоящих людей.
Даже служители в раздевальной загадочно тихи, исполнены созерцательного спокойствия, не брюнеты и не блондины, а так – нечто среднее.
Дома они, может быть, под воскресенье пьют денатурат и долго бьют жену, но в библиотеке характер их не шумлив, неприметен и завуалированно-сумрачен.
Есть и такой служитель: рисует. В глазах у него ласковая грусть. Раз в две недели, снимая пальто с толстого человека в черном пиджаке, он негромко говорит о том, что «Николай Сергеевич мои рисунки одобрили и Константин Васильевич также одобрили, первоначальное я произошел, но куда податься, между прочим, совсем неизвестно».
Толстый человек слушает. Он репортер, женат, обжорлив и заработался. Раз в две недели ходит в библиотеку отдыхать – читает об уголовных процессах, старательно рисует на бумажке план помещения, где происходило убийство, очень доволен и забывает о том, что женат и заработался.
Репортер слушает служителя с испуганным недоумением и думает о том – вот ведь как поступить с таким человеком? Дать гривенник, когда уйдешь, – может обидеться: художник; не дать – тоже может обидеться: все-таки служитель.
В читальном зале – служащие повыше: библио- текари. Одни из них – «замечательные» – обладают каким-нибудь ярко выраженным физическим недостатком: у этого пальцы скрючены, у того съехала набок голова и так и осталась. Они плохо одеты, тощи до крайности. Похоже на то, что ими фанатически владеет какая-то мысль, миру неизвестная.
Хорошо бы их описал Гоголь!
У библиотекарей «незамечательных» – начинающаяся нежная лысина, серые чистые костюмы, корректность во взорах и тягостная медлительность в движениях. Они постоянно что-то жуют и двигают челюстями, хотя ничего у них во рту нет, говорят привычным шепотом; вообще, испорчены книгой, тем, что нельзя сочно зевнуть.
Читать дальше