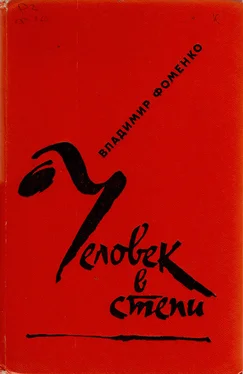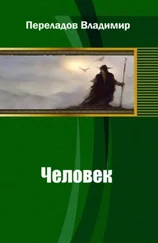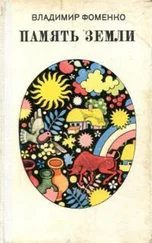— Откусался, — говорит летчик и осторожно, носком унты поднимает усатую волчью губу. Клыки под губой желтые, сточенные.
— Много на веку порезал…
Поодаль отрыгнутые куски мяса с овечьей шерстью.
— Вчера надо б его стрелять, и жила бы овечка, — по-крестьянски вздыхает летчик. — Ну, потащили?
Мы берем — один за одну лапу, другой за другую. Невольно пробую на палец забитый снегом коготь. Выпростанный из шерсти, он оказывается длинным, жестким, как согнутый гвоздь.
— Это ж волчиха, — показывает летчик-крестьянин на соски. — И щенная ведь, пакость… Видите? Тут и ее хозяин есть! Найти б его! А?
Торопливо подволакиваем тушу, переваливаем через борт в мою кабину.
— Давай, садись давай! — переходя на «ты», кричит летчик, шагая по гулкому, как мембрана, крылу к своему сиденью. — Мы его сейчас! Лететь вдоль балки, низом надо. Чтоб над самой балкой!..
Взвывает мотор, идем в воздух.
Но волка-хозяина мы не обнаружили. Если его не взяли с других самолетов, он разбойничает до сих пор.
Товарищ Жариков — аккуратнейший человек, причесанный на пробор волосок к волоску. Помощник председателя райисполкома, он с посетителями беседовал необычайно обстоятельно. Если вопрос решить сразу было нельзя и приходилось назначать следующую встречу, Жариков открывал в настольном календаре нужную страницу, делал пометку, а записав, снова надевал на чернильный карандаш пластмассовый наконечник.
Я поразился, узнав, что в войну Георгия Никитича Жарикова — лихого разведчика — знали на весь казачий корпус. Поговорить о корпусе с самим Георгием Никитичем не удавалось: шла стройка Веселовского водохранилища, в райисполкоме было не протолкаться от приезжавшего народа.
Как-то, убирая в сейф дела, Жариков неожиданно сообщил, что едет на утку. При слове «утка» я не выдержал и, должно быть, так глянул на Жарикова, что он спросил:
— Хотите стрельнуть? А плавать умеете?
Я кивнул. Плавать я умел, и вроде неплохо. Непонятно, правда, зачем он об этом спрашивает? Уж несколько дней, принесенные восточным ветром, стояли морозы. Где ж тут плавать?
— Ну, поедем, — решил Жариков. — Ружье с патронами и носки дам я. Остальное надо доставать. У вас какой номер сапог?
— Сорок первый.
— Значит, нужен сорок третий, чтоб на шерстяной носок и портянки.
Он снял телефонную трубку, с кем-то соединился и спросил:
— Товарищ Сапега, не дадите мне сапоги на ночь? Завтра привезу.
У меня сжалось сердце. Сейчас этот Сапега скажет: «Что ж вы вчера не звякнули? Вчера как раз были сапоги, лежали. А сегодня, как назло, дал зятю». И сорвалась поездка…
Но сапоги были дома.
В другом месте не отказали в ватных штанах вместе со стеганкой. У третьей доброй души нашлась капелюха. Венцераду, то есть широченное рыбацкое брезентовое пальто, искали долго.
— Нет-нет, — говорил Жариков в ответ гудящим в трубке голосам. — Венцераду белую. Только белую.
Под вечер шофер привез в дом приезжих ружье и громоздкий узел. Я рано лег, но, как всегда перед охотой, спал тревожно, все взбрасывался. Окончательно встал в три ночи, зажег лампу, начал одеваться. Ветер на улице, слышно, не утихал, проносился над крышей, гремел болтом ставни.
Жариков обещался в четыре. Секунда в секунду за окном стрельнула дверца машины, вошел Жариков.
Не раз замечал я, что люди, одетые для охоты, ведут себя как бы запорожцами: шагают вразвалку, разворачиваются энергично. Георгий же Никитич аккуратно пригладил волосы, попросил:
— Покажите, как портянки замотали.
«Комроты Жариков проверяет солдатика», — усмехаясь, подумал я и стянул сапог.
— Ничего, — осмотрел замотку Жариков, — а когда руки поднимаете — стеганка не тянет?.. Покажите. Ладно, поехали. Насчет дичи будет так: по паре нам с вами, пару шоферу, остальное, как всегда, в детский интернат.
Мы помчались по гладким, как стол, улицам степного поселка Веселого, но, выбравшись за околицу, сбросили скорость, начали нырять по изрытой дороге. Все вокруг было ископано, в лучах фар высвечивались бугры земли, высокие штабели, заборы, склады, и все это тянулось до самого берега незаконченного водохранилища. Смешанные воды Маныча и далекой Кубани соединялись, затопляя и мелкие и глубокие балки, хороня русло Маныча, где, отмеченная на всех специальных картах, лежала многовековая великая дорога перелетной птицы.
Сейчас тут, где были привычные птице берега, разлилось Веселовское море, и удивленные утки садились на небывалый здесь простор. Мороз в эту осень ударил жестокий, будто январский, но птица чуяла, что он нестойкий, не спешила на юг и, снимаясь с открытой воды, летела к берегам, в «затишки».
Читать дальше