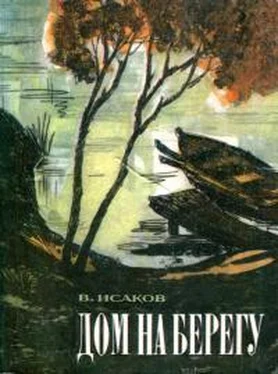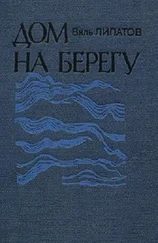— Вообще-то он больше всего любил весну. Самые знаменитые картины у него со снегом, с солнцем. Вот… «Весенний солнечный день» — это он писал в Троицком посаде. «Мартовское солнце» — у себя на даче, в Лигачеве. В эту пору еще мало охотников ходить на этюды. А он мороза не боялся, ходил…
Я отложил альбом, снова постоял у окна, остановился перед висевшей на стене фотографией. Юон. Маленькая седая бородка, бритая голова, строгие глаза. Что, собственно, нам известно об этом человеке?
Юон прожил долгую жизнь, восемьдесят три года. Предки его были выходцами из Швейцарии, а сам он стал глубоко русским человеком, поэтом всего русского. Он был живописцем, графиком, театральным художником, педагогом, искусствоведом. После Юона остались прекрасные картины, книги и ученики. Умер он в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году, будучи народным художником, первым секретарем Союза художников СССР.
Между тем самое интересное в нашем разговоре с Иваном Михайловичем Митрофановым, охотником и художником, живущим в деревне Баранья Гора, только начиналось. Иван Михайлович (широкая душа, добрейший человек, который никогда ничего не прячет и не запирает) вдруг взял ключ, повозился с ним и открыл один из ящиков старинного письменного стола. Там в китайских, немецких, голландских коробках лежало что-то заветное. По-видимому, особо дорогие для художника кисти и краски. Иван Михайлович взял одну из кистей, молча повертел в руках и протянул ее мне:
— Вот. Любимая кисть Юона. Он все картины ею заканчивал.
Это была изящная французская кисть с черной ручкой и золотым ободком. Сбоку, золотым по черному, блестело тиснение: «Париж». Мне показалось, что кисть даже все еще хранила запах юоновских красок.
— Любопытно. Как она к вам попала?
— Длинная история.
Иван Михайлович погладил трущуюся у ног легавую собаку Ладу, дал ей кусок сахару.
— Началось все с того, как Юон приезжал сюда на этюды. В том же году, осенью, я поехал в Москву учиться. Узнал, где находится частная художественная школа Юона, пошел с приятелем посмотреть, что это такое. К тому времени я немного рисовал и страшно хотел быть художником. Но таких, как мы, мечтающих стать художниками, оказалось много, и школа у Юона была переполнена. Тем более, что принимал он в нее всех желающих, без всяких экзаменов. Ну, Константин Федорович все же нашел для нас уголок, посадил вместе с другими, велел рисовать модель. Не знаю, что у меня получилось, но, видимо, Юону понравилось мое старание. Он разрешил по воскресеньям приходить к нему заниматься рисунком.
Иван Михайлович повеселел, оживился от воспоминаний.
— Рисунку Юон придавал огромное значение. Все время говорил: «Художник тот, кто умеет рисовать. Кто не умеет, тот мазила, хуже маляра. Где рисунок? Что портить краски? Что красить, когда ничего нет?» Строг был. Подойдет, встанет сзади и молчит. Бывало, кто-нибудь не вытерпит, попросит поправить рисунок. А он только усмехнется. «Я, — говорит, — не Евграф Сорокин». Был такой рисовальщик, рисовал человека одной линией, начинайте пятки… — Хозяин от души залился смехом. — Да… «Я, — говорит, — не Евграф Сорокин». И к следующему ученику. В общем, два года у Юона были первой школой. После этого я выдержал экзамены в Училище живописи, ваяния и зодчества, стал уже всерьез учиться на художника.
Мы помолчали.
— Получилось так, что в училище мы попали вместе с Игорем Юоном, сыном художника. Юоны часто приглашали меня домой, обедать. Константин Федорович все предостерегал нас от формалистов. «Смотрите, — смеется, — они вас проглотят и потрохов не оставят».
— Ну и как — не проглотили?
— Позже, во Вхутемасе мне все-таки пришлось поучиться у формалистов. У самого Кончаловского, — улыбается Иван Михайлович. — Ничего, остался жив. Наконец присвоили мне звание художника. Дают направление: в Муром. А я, конечно, хотел работать только в Москве. Пошел к Юону, жалуюсь: «Зачем мне какой-то Муром?» «Муром? — говорит он. — Поезжайте обязательно. Там работает академик Иван Семенович Куликов, любимый ученик Репина. Знаете картину «Государственный совет»? Так вот, левую половину ее писал Куликов, а правую — Кустодиев. Репин только поправлял. Сейчас я вам письмо к Куликову напишу…»
Иван Михайлович взволновался, молодо покружил по комнате.
— Берет бумагу, пишет. Мол, посылаю вам на исправление своего ученика, наполовину испорченного формализмом… Так с этой запиской я и явился в Муром. Интересный был человек Иван Семенович Куликов. Много можно бы порассказать… Ну, ладно. После Мурома я вернулся в Москву, а потом уехал в Орел, где и проработал двадцать лет — сначала преподавателем, потом директором художественного училища.
Читать дальше