Феся видела, как Никифор в испуге откинулся. Однако Соловей прикрикнул:
— Но!..
И перо заскрипело… Феся сидела на краешке кровати, в груди ворочались камни.
Бумагу в волость дописывали при лампе. Зажечь ее Фесю не позвали. Никифор сам долго зажигал, неверной рукой никак не попадал стеклом в горелку.
Соловей утомился, заохал, вышел наружу осмотреть двор на ночь. В нехорошей тишине укладывались спать, Фесю не тревожили, будто забыли о ней. Соловей, как всегда, лег в передней комнате, где вечеряли. Старуха в чулане не вставала, — о ней не вспоминали, как о мертвой. Только Феся помнила, кормила ее… Никифор тихонько вошел в горницу, Фесе шепотом:
— Ляг… Спи…
Как неживая, поднялась, сняла кофту, юбку. Оставшись в нижней длинной рубашке, снова села на край кровати. Все было ненавистно здесь. В темноте в зеркале на стене смутно увидела свое лицо: только поблескивали глаза. Что будет отцу от той бумаги, когда Соловей отвезет ее в волость? Надо бы бежать домой, все сказать. Новая беда собиралась над отцом. До нестерпимости было жалко его. Так и виделись его темные злые и добрые глаза, морщинки вокруг них, большие, с бугристыми пальцами, твердые, шершавые руки — прижала бы к щеке. Сейчас, что ли, побежать к нему?
Повернула голову к окну. За стеклами в черном небе мигали звезды, дрожали, будто вот-вот осыпятся.
— Феся… Ложись… — с другого края кровати позвал Никифор.
Не ответила. В передней комнате, слышно, Соловей не спал, скрипел кроватью, покряхтывал. Громче, нетерпеливее опять позвал Никифор:
— Фесь…
— А ты нагайкой, да по голому! — вдруг громко и зло подсказал Соловей из передней комнаты. — Проклятая Обидная порода. Отруби едят, хозяйства на ломаный грош, а гонора — на мильон чистым золотом. Хорохорятся, грудь вперед, а сами объедкам рады, как собаки.
У Феси само собой звонко вырвалось из груди грубое, чего другой раз никогда не сказала бы:
— Закрой пасть, старый пес!
Сама не знала, как подкатились и вырвались такие слова. Ужаснулась и обрадовалась. Пусть знает! Услышала, как от этих слов Никифор тихо ойкнул, сел. В передней комнате некоторое время было тихо, старик онемел. Потом заходила, заскрипела под ним кровать, по глиняному полу глухо затопали босые ноги. В дверях забелело — Соловей в исподнем. Что-то стукнуло, задел дверь чем-то деревянным, — верно, в руках его палка, что обычно стоит за кроватью, в углу… Трудно дыша, Соловей налетел, замахнулся в темноте. А Феся даже не пошевелилась, только негромко, но ясно сказала:
— Не троньте, а не то убью, до смерти зарежу либо все хозяйство спалю.
— Вон! — взревел Соловей.
Поднялась, вышла на двор, неторопливо, хотя и боялась, что Соловей сзади ударит. Соловей за ней захлопнул дверь, слышно было — накинул крючок.
Темно. Ночью в одной рубашке холодно. Села в бричку, на влажную от росы солому. Посмотрела на звезды. Подобрала ноги под длинную рубаху. Через все село бежать к отцу в такой одеже не годится — парни и девки еще гуляют, вон где-то слышен смех, разговоры. А если и прибежит — по-за хатами, — станет ли отцу от этого лучше? А ей тогда что делать?
Скоро из хаты к ней прокрался Никифор, вынес юбку и дерюжку, чтобы укрыться. Сам дрожал, чуть ли не плакал.
— Феся… Фесюшка…
— А что тебе — Фесюшка? — ответила, дрожа от холода и злости. — Всегда говорила: не трогай меня, отстань. Все равно мира у нас не будет. Квашня этакая! Зверь позорит, выгоняет твою жену, а ты только пузыри пускаешь, как дитя… В вашей хате жить — лучше в колодец! В эту хату теперь не войду, хоть на коленях стой. Лучше с овцами ночевать. Завтра пойду в отару, в степи останусь со старым чабаном… А дальше так: если худое сделаете с моим отцом, худо будет и вам… Ой как худо!
8
Лиза теперь одна, без Феси, хозяйничала в хате и во дворе, сама приказчица, если Горка дома. Дел словно поубавилось. Все у нее мигом, не успеешь моргнуть — готово.
После косовицы отец снова брал соль на Сиваше. Привозил и складывал под стеной хаты, подальше от база — не потоптала бы скотина. Оберегая от мусорного ветра, накрывал соль соломой, придавливал камнями. Чистая соль дороже… На севере покупают соль для худобы — скотина очень любит, с солью все съест. За соль дают картошку.
Пока отец и Горка грузились на Сиваше, Лиза убиралась в хате, кружилась на дворе у летней печки — распаляла ее кизяком или сухим кураем. Синеватое пламя трепетало. Чистый, острый, щекочущий ноздри дымок вился в высокое синее небо, — век стояла бы, подкидывала в топку.
Читать дальше
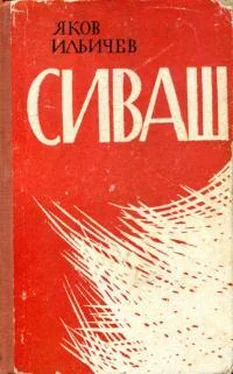



![Валерий Ильичёв - Жестокие игры [сборник]](/books/31457/valerij-ilichev-zhestokie-igry-sbornik-thumb.webp)

