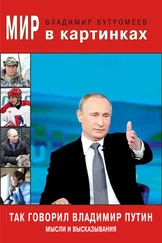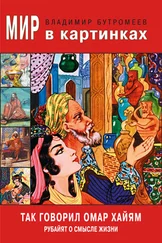А потом вдруг наступала весна, и тянуло на улицу, тянуло куда-нибудь идти, видеть что-то новое, оживающее. Как ни любил он привлекающие глаз краски осени и зимы, но и осенью и зимой почти никуда не ходил, сидел дома. А вот весной и в начале лета, не замечая никаких красок, ничего, кроме воздуха, напоенного чем-то живительным, он часто, особенно по утрам в воскресенье, бродил почти бесцельно, словно влекомый какой-то радостной силой.
Как-то раз он встал совеем рано и пошел вдоль вспаханного поля к лесу. И когда уже хотел поворачивать обратно, вдруг метрах в десяти от него и совсем невысоко над землей, словно отрываясь от нее, появился жаворонок. Он изо всех сил трепетал крыльями, каждым перышком, и пел, пел так, как поют жаворонки летом в высоте жаркого дня. Сергей Сергеевич видел, как он поднимается, заливаясь песней, все выше, и выше и вперед, и еще выше, и потом, когда уже был точкой, и когда совсем уже стал невидим, — песня, рожденная у земли, у кромки вспаханного поля звенела и лилась на землю.
Сергей Сергеевич шел назад, дивясь этой встрече. «Вот так и жизнь, вот так и жизнь», — радостно повторяло все его существо. Роса, утренняя роса была вокруг. Капельки воды на травах лучились синими, оранжевыми, фиолетовыми брызгами. Вот такая капелька сияет на кончике тонкого длинного стебля. И если захочешь взять ее к себе, бережно сорвешь вместе с травой, маленькая капелька чистой влаги — и больше ничего. Но как блистает и сияет, манит к себе, недосягаемая, как горит алмазом на кончике зеленого листа. «Вот так и жизнь, вот так и жизнь», — говорило, пело все внутри.
Время шло своим привычным путем. И часто это повторялось — зима, лето. Сергей Сергеевич по-прежнему жил один. Старея, он все больше любил не читать, а перечитывать книги. Все больше любил, особенно весной, после обеда, когда пригреет, сидеть на солнышке, чувствуя и видя, как шелуха хитросплетений спадает с этого мира. Извивы души становились мягче и проще, принимая каждую оттаивающую травинку весной, каждую пылинку в летних косых лучах солнца под вечер.
В доме у него висела небольшая картина в легкой желтенькой рамочке, написанная скорее всего художником-самоучкой. Зеленый мокрый летний луг, плавная полоска речки с заросшими травой берегами, солнце, и где-то за верхней рамкой трепещет и заливается утренней песней жаворонок.
Небольшая, негрубая, но массивная челюсть, широкий лоб, большая, вросшая в не очень широкие, но мощные плечи голова, короткие ноги — во всем этом было что-то медвежье. Медленно бегавшие глаза производили впечатление равнодушной уверенности зверя. Отец его был человеком большой силы, и, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, быстрый и ловкий. Однажды, по весне, застав в своем сарае волка, который, дико испугавшись, прыгнул в окно, успел схватить его за хвост. Волк со страху дал струю поноса, и, вырвав хвост из рук ошеломленного человека, бежал в лес. Пришлось неделю подряд топить баню, чтобы отмыться.
Но это угрюмое, полудикое существо не было лишено человеческих чувств. Умирая, он звал сына. Сын стоял перед ним в привычной своей угрюмости, и, ощутив физически последний вздох отца, вышел во двор. От отца осталась хата и сарай. По двору бегала сестра. Она жила в одной деревне с отцом. Потихоньку перетащила все, что было в доме, выманила деньги, еще при живом отце продала сарай и договорилась о продаже хаты.
— Может, ты возьмешь доски? Бери! Ты ведь строишься.
На дворе лежала груда недавно распиленных досок.
Ларион посмотрел угрюмо-насмешливо и тяжело сказал:
— Не-е на-до.
Во всей округе не было лучшего математика. Ларион решал любую задачу любого курса института. Когда приходили к нему с просьбой решить задачу, всегда заставали его за едой. Ел он обычно капусту. Не отрываясь от миски и не переставая двигать челюстями, говорил решение, если человек соображал, если нет — тут же писал. Денег не брал. Но смотрел насмешливо, презрительно и тяжело. Обращались к нему в самых крайних случаях.
За долгие годы работы учителем физики и математики он не нашел ни одного ученика себе по душе. Когда приезжали проверки, давал самые тяжелые контрольные, стоял в углу класса и говорил время от времени: «Решайте. Решайте». Бо́льшая часть у него получала двойки. Когда директор требовал уменьшить число двоек в классе и просил вызвать ученика исправить двойку, Ларион вызывал и давал самый сложный вопрос. Ученик не раскрывал рта. «Садись. Три». Ко всем, кто терпимо разбирался в школьной программе, он относился с пренебрежением и ставил тройки. Ему не давали вести старшие классы, чтобы не портил аттестаты. Двоих его сыновей постигла равная для всех участь, в третьем он признал глубину мысли. За девять лет учебы в школе он ни разу не уделил ему внимания, ни разу не помог по математике. Пятерку, которую ставили другие учителя, не замечал. В десятом дал ему задачу, потом другую. Сказал в учительской: «Я посмотрел, у него есть понятие». Сын выдержал год занятий с отцом, которые состояли в решении задач без единой подсказки. Когда сын справлялся с задачей, Ларион довольно хмыкал, смотрел стоя из-за плеча на решение и давал новую. Лицо его выражало: «А эту?»
Читать дальше