Порой Лукашик угощал ее, так как она никогда не отказывалась раздобыть ему самогона. Лукашик это ценил.
Она не садилась, а, стоя у стола, выпивала полстакана, закусывала кусочком хлеба и как-то сразу менялась: вся розовела, слова ее лились плавно и тягуче, и Лукашик невольно заслушивался.
Начинала она издалека. Один человек рассказывал, что фашисты готовят облаву на партизан. Их теперь, говорят, много ходит по лесам. На днях взорвали целый эшелон с пушками. А то недавно убили из-за угла коменданта города. За это немцы расстреляли пятьдесят белорусов и сто евреев, потому что есть подозрение, что стреляли из гетто... Вчера ночью партизаны напади на полицейский гарнизон при шоссе. Все сожгли. Немцы поехали вдогонку, да попали в засаду. Вернулись немногие.
Лукашик только диву давался, откуда она все знает! Кажется, нигде не бывает, целыми днями сидит дома. Правда, старик ее ходит по людям с топором за поясом: строит, плотничает. Неужели он приносит новости? Лукашику не верилось, что этот унылый, с носом на все лицо, сонный дядька что-нибудь знает, кроме топора.
Сам Лукашик больше молчал, редко высказывал свое мнение об услышанном, но тетка Марьяна постепенно начала считать его своим человеком.
Однажды, стоя возле Лукашика и глядя, как он жадно закусывает чарку первача, она спросила у него прямо, как у своего:
— И что это с вами сталось — так пить начали!
Лукашик сидел с полным ртом и не успел ответить, как тетка начала снова:
— Давно я к вам присматриваюсь: человек вы неплохой, и люди вас хвалят — детей не бьете, как другие, к немцам не очень подлаживаетесь. А вот почему вы тут — никак не додумаюсь.
— А где же я должен быть? — непослушным языком спросил он.
— Не мне вам советовать. Вы не маленький. А зло таить на своих — грех большой...
Он уже понял, куда она гнет, и резко оборвал:
— Не надо, тетка, меня учить. И агитировать...
Лукашик думал, что после этого разговора тетка Марьяна будет злиться на него, но ошибся. На следующее утро она, как ни в чем ни бывало, принесла завтрак. Правда, новостей никаких не передала, а, может, просто не слышала свежих. Зато в обед, поставив перед ним миску щей, сразу начала:
— Вы слышали (она его никогда не называла иначе, только «вы», будто у него и имени не было), этот человек, что все ходил по деревням с точилом,— Борух, уже не будет больше ходить. Дознался, что будут евреев расстреливать, и сбежал куда-то. А я думала, что он пойдет за своим раввином. Есть же все-таки смелые люди...
— Нашли смелого,— буркнул Лукашик.
— А что ж, не смелый? Смелее, чем...— Марьяна сделала маленькую паузу, словно решая, говорить или нет,— вы! — выпалила она и, видно, сама испугалась.
Лукашик бросил ложку на стол. Лицо его побелело, но голос все же звучал сдержанно:
— У каждого своя дорога.., Я хотел бы знать — не поручили ли вам сагитировать меня в партизаны? — Он бросил сердитый взгляд на Марьяну, но та стояла, потупившись.-- Что-то уж больно вы за меня взялись... А может, я вам мешаю, и вы хотите, чтобы я освободил комнату? Так скажите прямо, я найду другое место.
Тетка Марьяна, слегка растерялась. Отошла к двери и взялась за щеколду.
— Нет, что вы... Живите на здоровье... Я не хотела вас обидеть, простите меня, старую. Что думаю, то и говорю. Больше не буду.— И она пошла, тихонько прикрыв дверь.
У Лукашика после таких разговоров сразу портилось настроение. Он начинал себя упрекать, почему не умер, как другие, с чистой совестью и спокойным сердцем. Почему не умер самой обыкновенной смертью солдата, которому слепая судьба или простая случайность предопределяет умереть от первой пули?
В такие минуты Лукашик, глядя в окно, со страхом ожидал, что вот-вот постучат в дверь, ворвутся в дом партизаны, станут допрашивать, почему он дезертировал из армии, почему пошел служить немцам...
Он невольно искал себе оправдания, но все доводы звучали даже для него самого наивно и неубедительно. Тогда он начинал сам с собой бесконечный спор, в котором пока что еще не было победителя.
А было ли в теперешней жизни Лукашика что-нибудь, чему он мог бы радоваться?
Он с горечью признавался себе, что ничего такого у него нет.
Звериная жестокость, унижение человеческой личности, абсолютное бесправие и ничтожность человека перед силой — вот что значит «новый порядок». Лукашик был не так слеп, чтобы не понять: пришли не хозяева — оккупанты.
Противно было жить, чувствовать это, видеть. Хотелось куда-нибудь сбежать, спрятаться, чтобы пережить лихолетье где-нибудь в затишье, а потом вернуться, когда станет спокойно на земле. А что на ней тогда будет — неважно. Лукашик чувствовал непреодолимую усталость, словно старый конь после долгой дороги.
Читать дальше

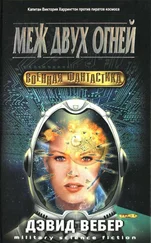

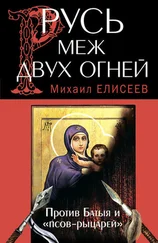




![Lutea - Меж двух огней - МАКУСА против якудза [СИ]](/books/397172/lutea-mezh-dvuh-ognej-makusa-protiv-yakudza-si-thumb.webp)



