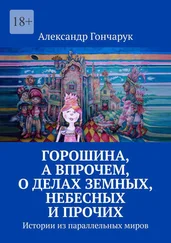Она снова нагнулась над сундуком и вдруг вытянула откуда-то со дна шелковую синюю кийикчу — мужской поясной платок, вышитый Мукаддам.
— Ого! — крикнула Лабар. — Когда это она успела вышить? Поглядите, как красиво! А я думала, она покупную кийикчу будет дарить жениху, наша келин. А она, глядите, успела, вышила!
Руки девушек потянулись к платку, Мукаддам вскочила на ноги, вспыхнув, вырвала кийикчу у Лабар.
— Не надо, не тронь! — крикнула она, смяла платок и сунула за пазуху. Дело в том, что в уголке платка было вышито: «На память Анвару-ака». А она и думать забыла об Анваре в последнее время…
Девушки удивленно промолчали, потом отвлеклись, разглядывая новый шелковый отрез, вытащенный Лабар из сундука. А Мукаддам пыталась припомнить лицо Анвара и не могла. Бесплотно расплывалось, уходило. Зато лицо Алимардана, улыбающееся, нежное, нависшее над ее лицом, его горячую кожу, руки, ласкающие ее плечи и грудь, она помнила. И запах его рта и запах волос… Господи, она сейчас потеряет сознание!..
Мукаддам взяла со стола гранат, надрезала кожицу, разломила.
Губы возлюбленного моего — половинки граната.
Руки его — лунная дорожка на воде Зарафшан!
Как я люблю его, простите меня, подруги,
Я совсем потеряла голову!..
Лабар пела, лукаво улыбаясь, и Мукаддам улыбнулась в ответ: «Простите меня, подруги, я совсем потеряла голову».
3
Алимардан проснулся поздно, полежал с закрытыми глазами, чувствуя, что не прошла еще томительная сладкая усталость в теле, улыбнулся и быстро повернулся на бок. Открыл глаза. Но Мукаддам уже рядом с ним не было. Часы пробили девять. Занавески были задернуты, потому в комнате стоял полумрак, но на дворе был уже белый день, и люди давно работали. Однако Алимардана эта мысль не заставила подняться: сегодня был первый день, вернее, первое утро после их с Мукаддам свадьбы, первое утро после того вечера, когда невеста законно, а не тайно вошла в его дом, легла в его постель.
Бедная его комната преобразилась: обшарпанные стены были закрыты шелковыми вышитыми сюзане, в нишах были красивыми стопками сложены бархатные одеяла, на токче поблескивали вымытые, аккуратно составленные фарфоровые чайники и пиалы. На столике рядом с постелью стояли ваза с яблоками, чайник и две пиалы.
Давно в доме не было так чисто, надо отдать молодой келин справедливость. Мама перед смертью уже так слабо себя чувствовала, что убирала только то, что бросалось в глаза. «Вот приведешь молодую в дом…»
Алимардан вскочил в одних трусах, подошел к окну, раздвинул занавески. Было пасмурно, ночью видно, прошел дождь, земля во дворе была темной, однако гладкой и чистой. В углу возле хлева Мукаддам старательно шаркала метлой, подметая двор. Толстая длинная коса моталась сзади, приминала широкое платье, обрисовывая изгибы спины и бедер. На Мукаддам, как положено молодой жене, были надеты шаровары-лозим, от этого она казалась длинноногой и повзрослевшей. Алимардан кашлянул, потер себе грудь, потом, взяв из вазы яблоко, отворил окно и швырнул в Мукаддам. Та испуганно отскочила, посмотрела вверх на орешину, недоумевающе обернулась. Засмеялась, увидев Алимардана в окне.
— Зачем вы кидаетесь? Я испугалась.
По узбекскому обычаю, она называла его на «вы», но Алимардан знал, что в молодых узбекских семьях, особенно в среде интеллигенции, принято теперь между мужем и женой обращение на «ты». Это ему казалось более современным.
— Кара гульча, — позвал он ласково. — Черный цветочек, пойди найди мне тапочки, что твоя мама подарила.
Мукаддам вспыхнула, улыбнувшись. Она все никак не могла привыкнуть к тому множеству ласковых прозвищ, которые придумывал для нее начитанный в газелях Алимардан. Черный цветочек, Синий цветочек, «Тиканли гуль» — колючий цветок (это когда они в шутку ссорились). «Ак гуль! Белый цветок! — шептал Алимардан, целуя ее ноги и живот. — Счастье мое, ты немая? Ты что молчишь? Тебе плохо?..»
— Какие тапочки? Вы шутите? — спрашивала Мукаддам, идя с метлой к двери. — Они же там стоят…
— Где? — спросил Алимардан, лег в постель, отбросив одеяло. — Да торопись, глупая, непонятливая, я соскучился, а ты все еще ребенок!
Он схватил смущенную Мукаддам за руки, стал целовать ее пальцы, узкие запястья.
«Сколько в нашей восточной поэзии написано красивых слов о женском запястье! — удивленно вспомнил он. — Впрочем, когда все остальное скрыто паранджой и чадрой и только беленькая ручка иногда мелькнет…»
Читать дальше
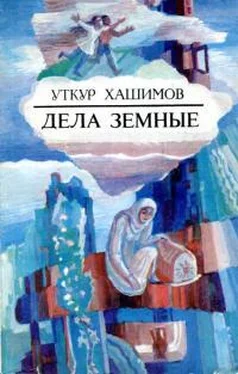


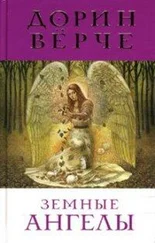

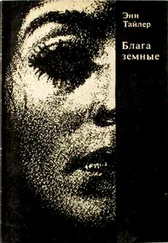
![Александр Эн - Сны земные [litres самиздат]](/books/437461/aleksandr-en-sny-zemnye-litres-samizdat-thumb.webp)