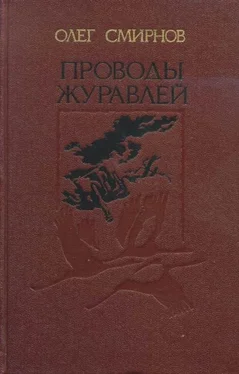Из школьного подъезда вместе с клубами пара выкатывалась ватага за ватагой — девочки и мальчики с ранцами на спинах, как с горбами, с сумками в руках: спортивные тапочки, трусики, майка; старшеклассники вышагивали гордо, расталкивая мелюзгу, являя неокрепшие басы и пробивающиеся усики. Мирошников тотчас увидел, как из дверей на ступеньки вышел Витюшка, поправляя одной рукой портфель-ранец, а другой — с матерчатой сумкой — размахивая и норовя съездить пристававшего к нему одногодка. Но, заметив отца, смущенно отдернул руку с сумкой и поспешил по ступенькам к нему.
Он обнял сына, поцеловал в щеку, тот смутился еще больше:
— Ну, что ты, пап? Целуешься…
— Виноват, — сказал Мирошников, улыбаясь. — Больше не буду…
Он хотел взять сына за руку и не взял: а ну как мальчишка снова пресечет эти принародные нежности? Мальчишка ведь не девчонка! Но когда они пришли домой и Витюшка наскоро порешал примеры, которые ему не давались, и отец проверил решение, когда без матери Витюшка обедать отказался («В школе завтраком покормили»), а тут и Маша позвонила, что к шестнадцати будет, подходите к метро, когда они отправились к метро, однако время еще было и решили заглянуть в парк ЦДСА, — Мирошников взял-таки сына за руку, и тот не противился, совсем наоборот. И Вадим Александрович подумал, что как ни крути, а годы уже малость его потрепали, развеяли иные иллюзии, многое недоделано или вовсе сделано не так, как надо бы, но все же выпадают и у него по-настоящему счастливые минуты. Например, когда идет по парку, под подошвами похрустывает снежок, и с веток пылится снежок, и небо ничем, кроме снега, не угрожает, и рядом с ним — сын, которого он держит за руку…
Они побродили по аллеям, вдоль обезглавленных, срубленных еще в юные годы серебристых елей (оттого росли вширь — не вверх), у пруда, где в не замерзшей у берега черной воде плавали почему-то одни селезни, посмотрели на прогуливающихся пенсионеров мужского и женского рода, и пенсионеры посмотрели на них. Мирошников подумал: «И отец мог этак прогуливаться каждый день, но трудился до конца» — и сказал:
— А хочешь, сынок, на выставку оружия пойдем?
— Ой, пап! Конечно!
Это было рядом, на площадке позади Музея Вооруженных Сил. Под открытым небом, припорошенные снегом, стояли бронепоезд и торпедный катер, танки и самолеты, орудия и ракеты, вертолет, минометы, бронетранспортеры — чего только не было. Витюшка жадно осматривал экспонаты, спрашивал:
— Пап, сила?
— Сила, — соглашался Мирошников и думал: от парка, от выставки до МИИТа две остановки трамваем, пешком десять минут ходу, зайти бы туда хоть во двор, а?
— Если на нас нападут, мы им дадим, да?
— Еще как дадим.
— И я так думаю. Пускай лучше не лезут.
— Не полезут, — окончательно успокоил Мирошников. — Побоятся.
— Пап, — сказал вдруг Витек, — а твой папа, мой дедушка, смело воевал, да?
— Воевал. Смело.
— А сейчас он умер?
— Умер.
— Почему? Старенький?
— Старенький и больной.
— Все старенькие — больные, да?
— Наверное, — сказал Вадим Александрович и добавил: — Пора, сынок, к метро…
— Еще посмотрим!
— Нет, пора…
Он рассчитал точно, они были у выхода со станции вовремя, но Маша приехала раньше и ждала их, сердитая:
— Вышла, а вас нету… Где вас носит?
— Мам, а мы в парке видали селезней, без уточек, — сказал Витя. — И выставку оружия посмотрели! Сила!
А Мирошников ничего не сказал, но подумал: «Почему я, собственно, должен кому-то угождать? То жене, то шефу Ричарду Михайловичу, который вовсе и не шеф, лишь директор фирмы?»
Дома Маша подобрела, отведав обед в мужнином исполнении, обед запили вчерашним компотом, и тогда Маша вопросила:
— А еще что-нибудь будет? Для души?
Она повторила шутливую фразу, которую произносил иногда сам Мирошников. Без улыбки он ответил:
— Будет и для души.
И выволок из заморозки пломбир. Маша захлопала в ладоши, Витюшка закричал «ура!». Пломбир размяли, размягчили, чтоб не был холодным, сдобрили смородиновым вареньем, и вкуснота получилась необыкновенная. Это было поистине для души…
Мирошников предлагал поехать к старикам еще в субботу, повечеру, — там бы переночевали, и воскресное утро было бы уже дачным. Но у жены были свои планы — уборка квартиры, — и она непреклонно произнесла:
— По-е-дем зав-тра!
И сколько ни уговаривал ее Мирошников, ответ был одномерный:
— Ут-ром! По-рань-ше!
Ну завтра так завтра. Поедем. Пораньше. На ермиловскую дачу. Которая когда-нибудь станет Машиной и, следовательно, его. И он будет вполне современный, преуспевающий человек: квартира, машина и дача. А здорово бы вместо дачи уехать куда-нибудь далеко-далеко, к черту на кулички, где новые люди и новая жизнь и где он сам бы стал новым. Юношеские мечтания? Они самые. К тридцати пяти можно обойтись и без них.
Читать дальше