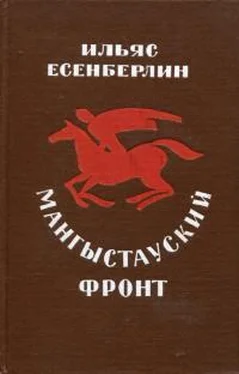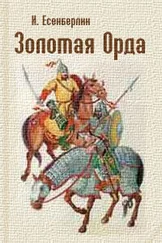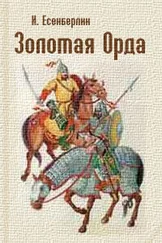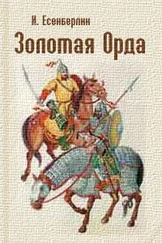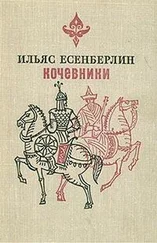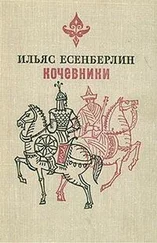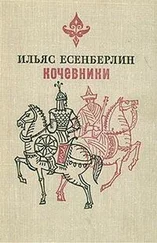На зимовку Майкудук, откуда отец из-за болезни последнее время почти не выезжал, Халелбек добрался ранним утром — стекла кибитки, вмазанные в глину, едва засинели. Триста с лишним километров от Жетыбая до зимовки они отмахали за какие-то девять часов и по мангышлакским меркам, где у каждого шофера своя дорога, доехали довольно быстро. Шофер Саша — рязанский парень, недавно демобилизовавшийся из армии и приехавший, как он считал, покорять полуостров сокровищ, заглушил мотор, посмотрел на спутника. Тот сидел, немного наклонившись вперед, бережно растирая ногу, и не спешил выходить.
— Приехали? — недоверчиво спросил Саша. — Или дальше двинем?
— Дальше? Нет. Вот он, дом, — не сразу отозвался Халелбек, разминая левую ногу, изуродованную на фронте и всегда затекавшую, когда долго была без движения.
Саша взглянул на зимовку, лежавшую за лобовым стеклом. Несколько саманных кибиток. Выбитая овечьими копытами серая земля. В стороне белел обложенный ракушечником колодец. Тишь. Безлюдье.
«Ну и место, — думал Саша. — Даже собака не гавкнет».
Халелбек тоже прислушался, ожидая привычного заливистого лая, но по-прежнему глухая тишина стояла вокруг. Опустел Майкудук за последние годы: молодежь разлетелась кто куда, за нею потянулись и старики. Отцовский дом стоял на отшибе. Кибитка вросла в землю, заметно подалась: одна стена пузырем выпирала наружу, другая — запала, как стариковская щека.
«Да и ты не молодеешь», — усмехнулся Халелбек, выбираясь из кабины. Он все ждал, что какой-нибудь пес выметнется навстречу, захлебываясь от ненависти к чужим, но все как вымерло: видно, и впрямь ни одной собаки не осталось на зимовке. Халелбек шел медленно, чтобы Саша, замешкавшийся у машины, догнал его, и совершенно отчетливо, словно это было не двадцать лет назад, а по крайней мере вчера, увидел летнее утро, наполненное сборами, движением, суетой и той бесконечной тревогой, которую принесла с собой война.
Тускло желтела выгоревшая от зноя земля, а небо — гладкое, ровное, выкованное на гигантской наковальне из одного цельного голубого слитка — мягко загибалось к горизонту. Отец, мать, братишка Жалел стояли поодаль от кибитки, а он вместе с другими мобилизованными сидел в широкой, как ящик, арбе, колеса которой были выше человеческого роста. Никто из родных не приближался к несуразной повозке: то ли не решались, потому что лейтенант, прибывший за джигитами, стоял рядом с арбой и, положив полевую сумку на колено, строго листал бумаги; то ли какая-то невидимая черта уже отсекла новобранцев от близких. Даже Жалел, бойкий, живой непоседа, притих, цепляясь за материнское платье. Халелбек встретился с ним глазами, зацокал языком, а рукой изобразил скачущего коня, как обычно, когда они играли в перекочевку, но Жалел вдруг заревел, мать испуганно прижала его к себе, гладя по курчавым волосам. Плач резанул Халелбека, и он уже ждал только одного: быстрее бы двинуться в путь.
Но лейтенант, на которого поглядывали и джигиты, и их родные, хмуро разговаривал с председателем аулсовета, негромко задавая какие-то вопросы, от которых председатель весь взмок, а команды «Трогай!» все не давал.
Последние минуты прощания — самые тягостные. Халелбек растерянно смотрел на близких, не зная, что сказать. Из арбы высовывалась его голова да еще корджун, в который мать натолкала самое вкусное, что только нашлось в доме: толстые лепешки — нан и тонкие — шорек; вяленое конское мясо, копченую баранью лопатку, сушеную дыню, хивинский изюм… Были в корджуне, конечно, масло, сухой творог — курт, баурсаки… Снеди столь ко, что хватило бы накормить не одного Халелбека. Мать сумела втиснуть и торсучок с чалом [1] Напиток из верблюжьего молока.
, хотя казалось, что в корджун не влезет даже иголка. Лежали в дорожном ковровом мешке чистые рубахи: одна новая и две старенькие, аккуратно зашитые матерью; три пары носков — двойной вязки, из шерсти овечьей, и одинарной — из шерсти молоденькой верблюдицы; были в корджуне нож, кружка, соль, ложка, на самом дне лежал треугольный мешочек на красном витом шнурке.
Читать дальше