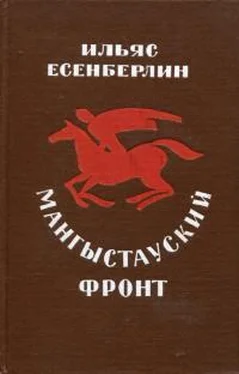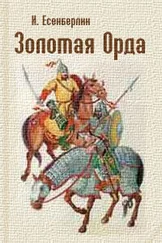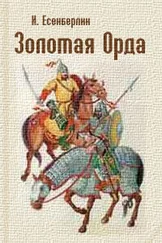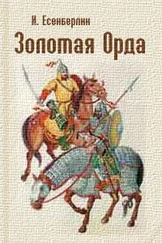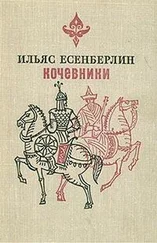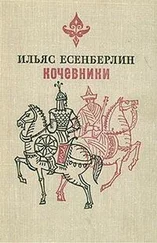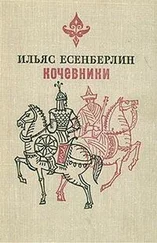…Но все это еще далеко — заснеженные подмосковные поля, горящая вода у волжского берега, бакинский госпиталь… Далеко-далеко и будет потом. Пока едет он в арбе вместе с такими же парнями-адаевцами, которые, как и положено джигитам, храбрятся, поплевывают на дорогу, покрикивают на ленивую верблюдицу, тянущую шею к лакомой колючке, или, положив под голову руки, глядят в бескрайнее, как родная степь, небо.
«Я — адай, коль узнать меня смог, — напевает кто-то из парней, бренча на домбре. — Не узнал — так и знай: я твой бог!» Скрипит, плывет, покачивается арба. Как сама судьба, вращаются громадные колеса. Безразлично вышагивает верблюдица, волокущая повозку по тонкому мангышлакскому песку, по острому, ножевому щебню, по глине — ровной и блестящей, словно стекло. Сейчас дорога уйдет за плоскую сопку, прикрывающую Майкудук от северного ледяного ветра, и пропадет зимовка, исчезнет, растворится, будто и нет ее не свете.
«Я — адай, коль узнать меня смог…» — тянется паутинкой прозрачный мотив. Но обрывается и он. Головы в тельпеках поворачиваются к Майкудуку. Жадно смотрит и Халелбек. Отец, мать, брат всё так же стоят у кибитки. Только стали они хрупкими, тонкими, точно былинки, иссушенные жарким ветром. Кто защитит их? Кто поможет?
Скрипит арба, тоскливый звук рвет сердце, вращаются колеса, оставляя позади все те же желто-серые бугры, бегущие друг за другом. И только ветер, что столбом завивает тощий песок, свободно уносится обратно к зимовке: он один здесь хозяин — сеет, молотит и собирает прах.
Как давно и как недавно все было… Умерла верблюдица, что везла их на фронт, и подросла новая. Покосился дом. Состарились отец и мать… Но по-прежнему горячо и влажно становится глазам, когда берется за щеколду, которой столько раз касались его руки. Он помнит ее тяжесть, выбоины, трещины так же, как тепло и свет родного дома…
Отец торопливо шел навстречу в чапане, накинутом на плечи: поздоровался с Сашей — гостю первый привет и особое уважение, — а уж потом молча, крепко обнял сына. Халелбек прижался щекой к костлявому плечу, в глубине души надеясь на чудо: вот сейчас болезнь отца или хоть часть ее перейдет к нему и не будет нужды ехать в больницу. Но отец быстро, резко отклонился от него — как отшатнулся: может, угадал тайное желание сына или застеснялся минутной слабости — не часто он обнимал Халелбека, даже когда тот был мальчишкой.
— Какие новости, сынок? Давно не был…
— Новости? Грызем железом землю. Одна забота.
— А нас земля грызет… Басикару в больницу увезли.
— Да не может быть… Когда?
— Две недели прошло…
Друг отца — Басикара — был, насколько себя помнил Халелбек, одним из самых прочных и непоколебимых столпов в жизни. Неутомимый и ловкий табунщик, острослов, который меткой фразой или шуткой мог выбить из седла, как куруком [5] Длинный шест с петлей, которым ловят лошадей.
, любого гордеца, пристыдить бездельника, срезать нахала, высмеять глупца…
И вот Басикара попал в больницу. Плотно скроенный, крепкий, как ствол саксаула, табунщик не устоял перед временем. Это известие поразило Халелбека настолько, что он и сам на мгновение почувствовал себя старым, усталым, немощным… Будто сама природа в чем-то крепко ошиблась.
— Какое несчастье! — сказал Халелбек. — Он же к дочери в Гурьев собирался… Прошлый раз все шутил… Поеду, говорит, в город. Погощу там. Может, и правда, как сказывали, течет в Урале-реке не вода, а кумыс с шербетом…
— Так вот, сынок. Сегодня в гости торопишься, а завтра…
— Что с ним случилось?
— Что? У дохтуров один ответ — старость.
Халелбек отвел взгляд — синеватая нездоровая кожа отца, заострившийся нос, темные пятна под глазами… Неделю назад вырвался в Форт-Шевченко к врачу, чтобы договориться обо всем. Врач сказал: «Вашему отцу восьмой десяток… Что вы хотите?»
— А какой Басикара в молодости был, — продолжал отец. — Барс! С земли в седло прыгал. В аламан-байге всех позади оставлял… — Горькая гримаса тронула губы. — Высушила его болезнь.
«Понял, что приехал за ним, — думал Халелбек. — Вот и не расспрашивает… Все сам понимает».
— Сынок! Родной! Вернулся! — мать, взмахивая руками, торопливо вышла из-за ситцевой занавески, перегораживающей кибитку на две части. — Как скучаю, сынок. Ни тебя, ни Жалела, ни внуков. Никого под старость… — Сухими, тонкими руками гладила сына, целуя его одежду. — Такие дни длинные… Ходишь, ходишь. Все о вас думаешь, думаешь…
Читать дальше