Однако, не заболей я, так и уехала бы, чужая от чужих, и скоро забыла бы и Анисью, и бурую ее кошку, и пустоватый, просторный дом.
Заболела я нешуточно. Не то свирепствовал какой-то изощренный, поднаторевший в схватках с людьми вирус, не то достала меня жестоко игравшая мною в детстве малярия. Трясло меня раза по три в день, голову ломило нестерпимо, так что и места, чтобы дух перевести, не находила я, ослабла же до того, что и через комнату пройти едва могла. Уже и отрешенность, равнодушие проступали сквозь первый испуг — все смел ужас нарастающей боли.
Сначала Анисья вроде бы и не обратила внимания, что постоялица ее слегла. Потом молчаливо взялась за меня: какой-то отвар давала, чем-то растирала тело и голову, обертывала, укутывала, не велела сгонять кошку, когда прилаживалась она у меня в изголовье. В моем пограничном, как теперь говорят, состоянии верила я в каждое движение Анисьи беспредельно. И бурая ее кошка виделась мне такой же необыкновенной, как ее хозяйка.
Казалось, стоит мне начать выздоравливать — и это ощущение должно пройти. А вот лежала я, еще очень слабая, но уже с блаженством освобождения от боли и дурноты, а все с тем же обожанием смотрела на Анисью. Возвращалась к нормальной жизни, но все хотелось мне ходить за ней, смотреть на нее, разговаривать с нею, так что я уже и казачков вспоминала, которые уверяли, что вылеченная Анисьей скотина потом ходит за нею. Но боялась я, что, сама такая независимая, станет брезговать Анисья моей навязчивостью и отодвинется, закроется от меня. А ведь она уже и разговаривала иногда со мной, видно, привыкла ко мне, а подчас так проста и доступна была, что решалась я спрашивать у нее в такие минуты, что у других спросить не решилась бы. И отвечала ведь. Меня не смущало, что на один и тот же вопрос сегодня она отвечает не то, что несколько дней назад. Так правильнее. Христос тоже говорил сегодня одно, завтра другое. И я вдруг понимала, что не из превосходства или скрытности молчала она, а от того, что противоречивым сплошняком шла ее мысль и с усилием обретала слова, а чужие ей не подходили.
Я даже о той встрече на базаре как-то спросила, муж ли то был? «Не он, нет», — спокойно, без всякого волнения сказала Анисья. «Может, не узнали?» — предположила я. И так же спокойно, без нажима или запальчивости, возразила Анисья: «Я его и без рук, без ног, без лица узнала бы. Нет, не он». «Но мог ведь очень измениться?» — настаивала все же я. И она вдруг огорошила меня, хотя ничто в лице ее не дрогнуло: «Я ж и говорю: не он». И пока я хлопала глазами, решая, что ж это: простонародное отсутствие логики или ключ к ответу, она уж о другом, даже без вопросов моих говорила — о бурой кошке, поражавшей мое воображение. Наклонившись к ней, она как раз вынимала репьи из ее шерсти — кошка, жмурясь, терпела. Распахивала глаза только, когда резким движением отряхивала Анисья шерсть с юбки. И снова сжимала глаза, не опуская в дремоте головы, не свертываясь клубком, лежала бурая с царственностью сфинкса. «Как зовут кошку-то»? «Не знаю. Умная — звать не надо. Сама, когда надо, приходит».
Сама она к ней и пришла, бурая, большеголовая, в залысинах и болячках, невесть откуда, в станице ни у кого такой кошки не было: однажды под вечер прыгнула через открытое окно. Анисья принесла ей миску, но, пока не вышла из горницы, кошка к еде не притронулась. Застала, вернувшись, Анисья только пустую миску — кошка ушла, как и вошла, через окно. На третий или четвертый раз кошка дала ощупать себя: в сосцах ее еще было молоко, но оттянуты соски не были — родила, значит, а кормить не пришлось. «И не боялись лишая?» «Лишай только к детям пристает. А это и вообще не лишай был — экзема нервная: котят хозяева умертвили — вот и не простила, ушла».
Собаки во дворе у Анисьи не было — собак не уважала.
— Сторожить у меня нет чего. Что взять — того не унесут. Больше визгу да лащенья — не люблю, когда вьются. Все у них в любови исходит. А не должно исходить. Нельзя.
Странно мне было слушать это, зная ее историю.
Еще поразительней неожиданный переход:
— Пусть живет — детей растит.
— Кто?
— Да тот человек, что подошел.
— Значит, все же муж был? Андрей? Пожертвовали для его детей?
— Нет. Если бы Андрей, не пожертвовала бы. Ни для кого. Не он.
— А был он-то?
— Был. Иначе бы меня не было.
Не однажды пытались приобщить Анисью к церкви верующие. Первый раз придут к ней — пустит. А второй — уже только выйдет на крыльцо, а калитку не откроет. Я о том речи не поднимала. Спросили как-то при мне ее внуки — с ними она говорила, как ни с кем, отвечая на каждый их вопрос.
Читать дальше
![Наталья Суханова Анисья [СИ] обложка книги](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-cover.webp)







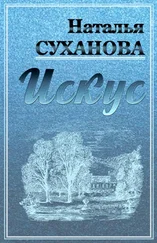
![Наталья Суханова - Зеленое яблоко [СИ]](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)