Приходили как-то пионеры, ребячье баили. «Вы, бабушка, прожили героем войну. Теперь вы, конечно, не все уже, наверное, и помните. Но вы можете уже отдыхать, ни о чем не думать, только для здоровья в огороде работать. Вы правильно, геройски жили в войну». Глупые дети. В войну не живут — в войну терпят. Хочется бежать, хотя бы навстречу смерти, а надо просто терпеть, хочется биться, кричать, а нужно просто не двигаться, цепенеть: в бомбоубежище, в камере, в постели в бессонные ночи, на площадке товарняка. С тех пор ты всю жизнь будешь бросаться бежать, работать, надсаживаться, но не ждать, уже ничего не ждать — только унять пожизненную надсаду сердца. Другие ходят на могилу к родителям — успокоиться. Ее же и там колотит и бьет, ибо обокрала тех, что дали ей жизнь. Пересилила их, переволила. Детячья, слабая, бесстыдная была их любовь, утешливы они были всякой малостью, укрывались в немощь и старость. Что ж, не видели разве, что она старее их, а прямится? С ними, двумя, трое было у нее детей, и все не ее.
Засыпала Анисья рано и быстро, но часто просыпалась ночью и не могла уже спать. Бывали ночи, полные такой безумной тоски — и в родах не знала она подобной боли. Ни лечь, ни сесть — только ходить, только метаться. И смерть была бы избавлением, да вот готовиться к ней, помогать ей не было терпения — тоска гнала по кругу. Но и были какие-то секунды, проступавшие из этой мощной тоски — обратные ей, и снова сияло золото, не дешевое рыжее с толстого обручального кольца — белое, мощное. И уже не было в этом золоте отблеска ее любви к Андрею — из самой тоски секундным знанием проступало пламя.
А то случится ночь, тихая, странная, нежащая сердце — не без тревоги, но со сладостным, теснящим волнением. Белеет зеркало в черной раме, дышит квадрат света, взлетает к окну и падает к полу, и рядом с этим летучим квадратом наливается воздухом и опадает штора, свивает и поднимает трепещущие концы. Чуть слышный шелест, скользящий квадрат, белое зеркало в черной раме. Слил казак третью трубу, не простую — белокрылого золота; звук ее уху не слышен, но слышит и тает, трепещет сердце, и напрягается горло неслышным — золотым звуком.
Только бы не было совсем близко низкой, как хрип, тоски.
* * *
Не так давно я услышала, что Анисья умерла. Жила тяжело — умерла легко: в своей постели, никого не обременив уходом за собой. Лицо разгладилось в смерти. Синие ее глаза прикрыли уже после — всю ночь и утро свет луны и потом нарастающий свет зари входили в ее уже не видящие зрачки.
Приблудная бурая кошка, живущая несколько последних лет у нее, ушла в тот же день из дому. Не в дом — к Анисье пришла однажды, с ней и ушла.
![Наталья Суханова Анисья [СИ] обложка книги](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-cover.webp)







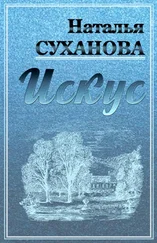
![Наталья Суханова - Зеленое яблоко [СИ]](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)