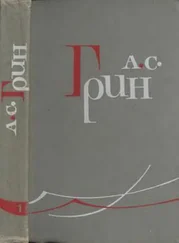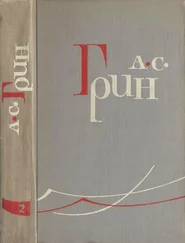Странно, что его еще ни разу нигде и ничем не притиснуло. Другие люди, поспокойнее его, попадают в беду, если не в лесу, так на сплаве, а он до сих пор цел и невредим. Почему бы ему сейчас, например, не поскользнуться и не сорваться в воду? Ведь это так просто. А бревно какое-нибудь покрупнее раскроило бы ему в это время башку. Ну, может быть, не башку, а что-нибудь другое, например по ногам хватило бы так, чтобы он с этого дня пополз на карачках. Посмотреть бы тогда в его глаза и послушать голос. Много ли в нем прыти сохранится. Спросить бы его: «Ну как, Юхо? Набегался? Накричался?» Что бы он тогда ответил? Небось, скривил бы плаксивую рожу и пополз бы прочь. А может быть, и не пополз бы. Чорт его знает. От него всего можно ожидать. Может быть, окрысился бы, как всегда, и заорал бы на Леппялехти:
— Не твое дело, чорт пузатый! Ты сам, смотри, не набегайся! Отойди лучше от меня подальше, мешок с потрохами, а то как двину!..
— Двинь, двинь, — ответил бы ему тогда Леппялехти. — А чем ты двинешь? Ногой, может быть?
А у него уж и ноги-то волочатся сзади, как чужие. Что бы он ответил тогда? Небось, завизжал бы от злости, как поросенок резаный, да уж ничего бы не помогло. Леппялехти и пальцем не шевельнул бы. А Юхо бы надрывался: и такой, и сякой, и тюлень белобрысый, и комод ходячий, и пень дубовый, и дурак. А Леппялехти все стоял бы и смотрел, как он беснуется. Небось, побесновался бы и упрашивать стал:
— Матти! Помоги мне. Ведь я тебя от смерти спас. Ты сознавать должен как товарищ...
— А-а, — сказал бы ему тогда Леппялехти, — вот как ты теперь заговорил! А кто меня каждый день изводит перед всем народом?
А он бы продолжал хныкать:
— Погибаю я, Матти. Не оставляй меня. Издевался я над тобой долго — это верно. Но ты прости. Ты же хороший человек, рассудительный, умный и в партию готовишься...
Тут мысли Леппялехти прервались, и он слегка коснулся рукой грудного кармана, в котором лежало написанное им заявление в партию. И после этого он посидел минуты две не шевелясь, а потом взял багор и стал ездить по тросу взад и вперед, проталкивая бревна где нужно и где не нужно.
Он старался и пыхтел больше, чем следовало, словно хотел стряхнуть с себя что-то, отогнать какую-то назойливую мысль. Но, так и не отогнав ее, снова сел на свое место и насупился. Так всегда получалось, когда он думал одновременно о Юхо Ахо и о заявлении в партию. Почему-то выходило так, что думать одновременно о Юхо Ахо и о заявлении в партию никак нельзя. Или думай о Юхо Ахо, или о заявлении в партию, а вместе не думай, иначе на сердце становится нехорошо и неловко.
Раньше Леппялехти не особенно старался понять, отчего это так происходит, но на этот раз он крепко задумался.
Все складывалось так, что в партию-то он может вступить, но после этого должен совсем выбросить из головы Юхо Ахо. А как же его выбросишь из головы, если он каждый день торчит на глазах, а если и не торчит на глазах, то орет так, что его слышно за пять километров? Разве такого выбросишь из головы?
Тут нужно было что-то раз навсегда выяснить и решить. И Леппялехти крепко думал, сидя в люльке и сжимая руками ее края.
Люлька была деревянная внутри. Это был просто большой, глубокий ящик, обитый снаружи листовым железом и подвешенный за трос на двух блоках. Внутри ящика была прибита доска для сиденья и больше ничего.
Ящик был довольно стар и расхлябан, но для такого спокойного человека, как Леппялехти, это не имело значения. Он не собирался в нем танцовать. Только на этот раз, очень крепко задумавшись, он так сильно сжал руками его края и уперся ногами в его стенку, что едва не выдавил ее.
Все же, просидев неподвижно минут пять, он сообразил наконец, что ему мешало думать одновременно о заявлении в партию и о Юхо Ахо. Он очень плохо думал о Юхо — вот что было тут причиной. Он всегда хотел ему зла и вспоминал о нем только с ругательствами и проклятиями, а совесть грызла его за это и напоминала о том, что если ты решил вступить в партию, то не желай зла своему товарищу. Ты готовишься в партию, читаешь разные книги, вникаешь в партийные и хозяйственные дела, а своего товарища хочешь взять за грудь и дать ему по морде кулаком. Вот что начинает грызть тебя каждый раз, когда ты сразу же после Юхо Ахо начинаешь думать о партии.
Леппялехти даже привстал в кабинке, сделав такое открытие. Теперь ему стало понятно, почему он столько раз отказывался подать мастеру заявление насчет партии. Он чувствовал, что совесть не совсем чиста, — в этом все дело.
Читать дальше