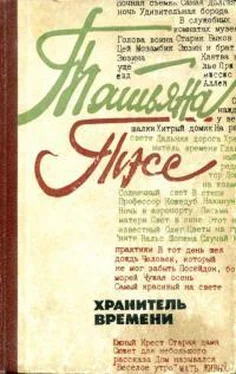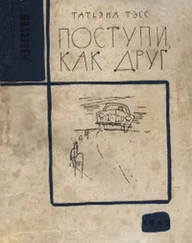Дядя Сеня опять вынимал из кармана платок и на этот раз вытирал глаза.
— Вы так говорите о Пушкине, будто не раз лично его видели, — сказала однажды моя мать, слушая рассказы дяди Сени.
— Пушкина? — Дядя Сеня задумался. — Если бы я шел по улице и вдруг увидел Шекспира, я бы умер от страха. Если бы я увидел своими глазами Пушкина, я бы, наверное, тоже умер. — Он помолчал и добавил: — Только от счастья.
И вот этого-то дядю Сеню я и хотела разыскать, оказавшись снова в Одессе. Долго искать не пришлось: он по-прежнему жил в доме, где жил всю жизнь.
Дверь открыл сам дядя Сеня.
Изменился он мало: та же высокая, сутулая фигура, те же угольно-блестящие глаза, быстрые движения… Только удивительная борода стала совершенно белой.
— Привет, привет! — сказал он, словно мы расстались вчера. — Заходите, прошу…
Комната его тоже не изменилась: в углу граммофон с красной трубой, над столом карта Одессы 1836 года, на стенах старинные гравюры Одессы, Турина, Марселя…
— Курите? — спросил он.
— Спасибо, нет… — сказала я рассеянно, разглядывая висящую на стене фотографию, где была изображена барышня в блузке с высоким воротничком и стянутой широким поясом длинной юбке. Под фотографией я прочла подпись: «Р. И. Хаджи. Первая одесситка, окончившая юридический факультет Новороссийского университета».
— Если курите, не стесняйтесь… — сказал дядя Сеня и залился знакомым тонким смехом.
Обернувшись, я увидела, что он протягивает мне вышитую бисером, длинную, как кочерга, трубку с чубуком из слоновой кости.
— Великолепная вещица! — сказал он, насладившись произведенным эффектом. — И вообще — масса новых приобретений редкостной ценности. Хотите посмотреть?
— Как ваше здоровье, дядя Сеня? — спросила я. Только сейчас я разглядела, что лицо его бледней обычного.
— Разве этот человек думает о своем здоровье? — В комнату вошла сестра дяди Сени. Она постарела больше, чем он; доброе ее лицо было, как всегда, встревоженным. — Хоть бы вы его уговорили поехать в санаторий. У него был сердечный спазм, можете представить…
— Вздор! — Дядя Сеня пожал плечами. — Но я сказал тебе: поеду, поеду в санаторий! Скоро у нас будет много денег…
— Много денег… — Сестра вздохнула. — Ему предложили работу в музее, такую замечательную работу… Он ходил туда ровно два месяца. А потом… О, боже мой!
Дядя Сеня снисходительно улыбнулся.
— Понимаете, в комнате, где я работал, напротив меня сидел один сотрудник, — пояснил он. — Однажды этот сотрудник сказал: «Мне пришла в голову мысль…» Я воскликнул: «Не может быть! Нет, вы ошиблись, что-нибудь да не так…» Он обиделся. Тогда я объяснил, что это слова не мои, а Пушкина: том сочинений, страница 717, «Мысли и замечания». Но он все равно обиделся. Не мог же я продолжать работать в одной комнате с человеком, у которого настолько отсутствует чувство юмора? Пришлось уйти… Он повернулся к сестре.
— Тося, — сказал он. — Тебе не видно, Тося, на полке лежит серая парусиновая папка?
— Сейчас принесу лестницу, — сказала сестра мрачно и ушла.
Пока ее не было, дядя Сеня показывал мне свои сокровища.
То были все те же странные вещи: отчет о состоянии Евпаторийской прогимназии за 1888 год; новогодняя визитная карточка разносчика газеты «Одесские новости»; сообщение о первых автомобильных гонках в Одессе; меню званого обеда в рамке из розового атласа, где было напечатано золотыми буквами: «Бульон Лукулловский, пирожки разные, холодное из рябчиков по-суворовски…»
Втащив в комнату стремянку, сестра молча сняла с полки серую папку, завязанную шнурками от ботинок. Дядя Сеня раскрыл ее, и у меня перехватило дыхание.
В папке, подобранные номер за номером, лежали экземпляры газеты, выходившей во время обороны Одессы: от первого дня, когда война была объявлена и гитлеровские войска пошли в наступление, — до последнего часа героической защиты города.
По мере того как вражеское кольцо вокруг города сужалось, объем газеты все уменьшался. Вначале это была четырехполосная газета обычного размера, потом она стала выходить на двух полосах, затем полосы уменьшились до размера книжной страницы, и, наконец, вышел последний, напечатанный на толстой оберточной бумаге номер, который набирали и печатали, когда бои шли на городских окраинах, — полный мужества и веры последний номер газеты величиною с листовку.
От этих газетных страниц веяло кровавой гарью войны, беспощадной жаждой, которая сжигала лишенный воды город, горькой пылью разрушенных зданий. Это была летопись мужества, гнева и боли, летопись грозной, навеки немеркнущей боевой славы. Я держала в руках шершавые листы, сухо пахнущие старой бумагой, и не могла оторвать от них глаз.
Читать дальше