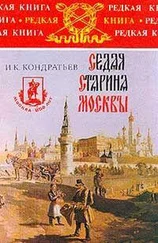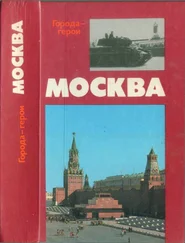И тело ухнуло, а мысль бездействовала секунду или две, пока встающий вал океана не сжал воздух и не подкинул машину.
Так выдох относит от лица пушинку.
Вертолет набрал высоту. Медведев откашлялся, усиленно прочищая горло, и оглянулся на Кукурудзу: как самочувствие, товарищ зам?
Быть отчаянным вертолетчиком неестественно. Никогда эта машина не дает ощущения настоящих крыльев, резкой смены движений — а значит, не придаст и лихости, не одарит упоением. Вечно в ней чувствуешь себя подвешенным на нитке к небу.
Нитка чуть-чуть не оборвалась… Лицо Кукурудзы, однако, было здорового цвета и столь свежим, что Медведеву самому захотелось так выглядеть.
Бодрясь, Олег Николаевич подмигнул Кукурудзе. Четвертый рейс летая над Южным океаном, налетав столько, что своими километрами мог бы опоясать экватор, он сделал кое-какие личные открытия, познал почти все возможности машины. По дрожанию рулей управления, вздрагиванию стен кабины, по вибрации сиденья, по взгляду на волны и облака он научился мгновенно определять, как ему поставить машину в воздухе или изменить направление — и сейчас это выглядело так, будто он управлял в бурную волну парусником.
Остров оказался рядом после серии качаний, рывков и вздрагиваний. Темно-коричневая каменная масса по левую руку, застывшее месиво с ярко-желтыми потеками солей, глыба, долго ничего не знавшая о человеке. Вулканическое дитя той эпохи, когда люди в Европе еще орудовали каменным топором.
Олег Николаевич стал огибать эту глыбу, почти прижимаясь к отвесным скалам. Грохоту винта они отвечали заглушенным эхом. Под баллонетами вертолета плыла узкая полоса берега с грозно набегающими валами. Мелькали стены из вулканического туфа, кривые столбы базальта. Над берегом не дергало. И болтанка уменьшилась. Вертолет шел низко, заставляя поднимать голову лежащих на берегу морских слонов, пугая пингвинов. «Тюлени — печень, пингвины — яйца, — соображал Медведев. — С водой робинзонам труднее».
— Ну, куда, куда прыгаешь? — говорил он пингвинам. — Не нравится наше тарахтенье? Какие нежные перепонки, музыкальнейший слух! Я знаю, Роберт Скотт уверял, что вы поклоняетесь хоровому пению, особенно если поют о красавицах. «У нее на пальцах рук колокольчики…» — спел он и тотчас вспомнил фотографию женщины у Виктора Петровича. Но думать об этом сейчас не хотелось.
«Еще минутки две, и мы должны увидеть людей. Что мы увидим? И все ли живы?»
Люди появились за поворотом. Скалы как будто отошли в сторону, открылись бухточка с кипящей водой между рифами и клин суши в замкнутом, как тупик, горном ущелье. На этом клине, усыпанном валунами, стояло несколько человек, наверно только что вскочивших на ноги. Они махали руками, затем кинулись расчищать площадку для машины — оттащили в сторону тюленью тушу, которая заменяла костер, дымила, во всяком случае; отнесли к ней что-то лежащее на шкуре, откатили несколько валунов.
Медведев, пережидая, летал над бухтой. Кукурудза тронул его за плечо и показал рукой на перевернутую, выброшенную на берег и разбитую шлюпку. Накатывая, широкие валы тащили ее по камням. Бухта белела от пены. Медведев кивнул: да, в такой ад по морю не сунешься!
Вдали штормовало научно-поисковое судно, чья шлюпка лежала на берегу. Медведев не видел, но угадывал: там все высыпали на мостик, на трапы — глаза в его сторону…
— Их первыми…
Голос Сережки Мурашова деловит. Командует бодро, словно побывал на курорте. Генку Федорчука не слышно, не видно. Хотя вон он, бывший румянолицый, с пухлыми еще недавно щеками…
Кукурудза не мешает Сережке. Не распоряжается, да и некогда, если вытаскиваешь ящик с медикаментами, ящик с продуктами, канистру с водой, теплую одежду — все, что хотели сбросить пострадавшим, если б не удалось сесть.
Сейчас нужны руки — нужно быстрей освободить машину для больных, и пусть она поскорей улетает: от тебя, Медведев, потребуется пять или шесть рейсов; будем сидеть здесь, ждать…
Ты тянешь на себя тюленью шкуру, пятясь, вжимаясь в узкое пространство кабины. На шкуре лежит матрос — без сознания. Другого беднягу уже подсадили, держа под руки, мягко подталкивая; он не так плох. Тому, который на шкуре, ты сгибаешь ноги в коленях, придаешь полусидячую позу… Втиснулись, кажется? А ну-ка, все от винта, ребята!
Сквозь стекло кабины качнулись внизу рифы, исчезли. Вертолет вздрогнул, попав в завихрение. Раненый застонал. Очнулся он, что ли? Нет… Кто скажет, выходят ли этого парня, марсового матроса, с горячечным, воспаленным лицом, с приоткрытым тонким, как трещина, ртом, с ссадиной на скуле? Матроса накрыло перевернувшейся шлюпкой да еще чем-то ударило по голове. Третьи сутки он не приходит в сознание. Одежда на нем влажная, как и у всех у них, разодранная камнями. В спешке накинули на него сверху новый ватник, нахлобучили на обвязанную тряпицей голову сухую шапку — скорей, скорей, главное — через несколько минут он будет на китобазе, там лазарет, там тепло, сухое белье, врачи… От шкуры — зря ее прихватили! — несет душной сальной вонью; показалось даже, что больной начинает от этого задыхаться, он стонет все чаще, шевелится, голова его перекатилась к твоему плечу. Тебе, Олег Николаевич, и самому душно, досадно. А как там другой, за спиной сидящий? Слышно — закашлялся. Тоже побывал под шлюпкой, откачивали. Неровно идет машина в воздухе, не дает обернуться. Стонущему воротник ватника лезет в рот, а не поможешь. Обе руки, как связанные.
Читать дальше