«Я отец Николая Богатенкова», — сказал он, здороваясь с председателем сельсовета Федором Степановичем, протягивая ему руку и отмечая про себя, как молодо выглядит тот.
«Очень приятно, — ответил Федор Степанович, пожимая руку подполковнику и приглашая его сесть. — Слушаю вас».
«Я знаю все, вернее, многое из того, что случилось с моим сыном. Мне рассказали в районном отделении и в районной прокуратуре. Но мне хотелось бы услышать еще кое-какие подробности, посмотреть место пожара и, может быть, узнать у вас или у директора школы, наконец, у хозяина или у хозяйки, как жил здесь мой сын», — сказал Богатенков.
Богатенков помнил, как Федор Степанович с минуту напряженно и внимательно смотрел на него, будто выбирал, что говорить: или то, что он действительно думал о Николае и обо всем, что случилось, или отделаться просто общими фразами.
«Ну что ж, — наконец произнес он. — Что я могу сказать? Был пожар, был взрыв — это вам известно. А кинулся ваш сын в огонь за рукописью. Его держали, не пускали, но он вырвался, и тут… все произошло. Я его на руках вынес, он был в очень тяжелом состоянии. А сейчас он в Белодворье, в больнице, мы все время следим за ним: и школа и я. Когда, знаете, позвонили мне, что нужна кровь для вашего сына, тут в полчаса целая машина людей собралась, поехали в Белодворье, не пожалели — вот отношение к вашему сыну. Люди у нас хорошие, душевные. И мне, поверьте, самому странно, как жил среди нас этот Минаев. Да и какой он крестьянин, давно уже не крестьянин — предприниматель, которому только разворота нет! И все мы ходили рядом с ним и ничего не замечали!.. Да, о вашем сыне: я только что разговаривал с главным врачом…»
«Я был в больнице, знаю».
«О» поправляется, хотя еще…»
«…плох».
«Получить такие ожоги… Нужно время, чтобы снова встать на ноги».
«А как он жил здесь?»
«Как жил, что тут я могу сказать вам? Хотя в общем-то надо бы побольше и поглубже интересоваться и работой и, может быть, даже жизнью каждого в отдельности. Ваш сын был очень спокойным человеком, в школе о нем отзывались всегда хорошо, я уже говорил вам. А что был он на квартире у истопника, у этого Минаева, — тут мы недосмотрели. Так опять же кто знал, что этот Минаев хранит у себя в подполе оружие и патроны? Ну, ворчал, был недоволен, но чтобы так!.. Этого, конечно, никто не знал. Да и другое: куда бы мы поместили вашего сына? Квартир у нас нет, вернее, не было. Вот сейчас закладываем два дома для школы и будем обеспечивать».
Прежде чем уехать из Федоровки, Богатенков еще побывал в школе и разговаривал с директором, а затем стоял у пепелища сгоревшей минаевской избы. Рядом с ним стоял подъехавший сюда же на рессорке Федор Степанович.
О чем говорил Федор Степанович и о чем говорил сам Богатенков, пока стояли у пепелища, он не все запомнил; он и теперь не старался восстановить подробности разговора; лишь так же, как тогда, он слышал за спиной голос Федора Степановича, и слова, которые произносил тот, и свои мысли — все это как будто сливалось теперь в одно стройное, понятное Богатенкову и пережитое им течение жизни. Ему ясен был старик Минаев, ясен близостью и схожестью с Лебедевым, которого раскулачивали в свое время в Нижней Рыковке и которого хорошо помнил Богатенков. «Мне не нужно растолковывать, кто такой Минаев, мне ясно все, — говорил он себе сейчас, сидя в глубоком кожаном кресле. — Но как он (он имел в виду сына) не мог увидеть и не мог сразу понять это? Ведь я-то знал, я-то мог ему рассказать прежде, давно, в детстве, я должен был раскрыть ему сложность жизни, борьбы, но не сделал это. А теперь он открыл сам, но какой ценой, какой ценой!» — повторял он. Он видел перед собой груду кирпича и штукатурки — все, что осталось от русской печи, когда-то стоявшей посередине минаевской избы, видел золу, головешки, обугленные и недогоревшие бревна, разбросанные взрывом, и вся эта картина, как и в минуту, в Федоровке, когда он смотрел на нее, вызывала в нем теперь душевную боль, какая всегда мучительнее и сильнее, чем физическая, угнетает человека. Но как ни было ему тяжело — и там, в Федоровке, и теперь, в номере гостиницы, — он все время старался как бы войти в жизнь Николая и оттуда, изнутри, понять смысл происшедшего; он представлял минаевскую избу с тусклой под потолком лампочкой, с накрытым клеенкой столом, лавкой, кроватью, печью, и долгие зимние вечера, как они тянулись для Николая, — теперь как бы тянулись для него; заснеженные деревенские избы, сугробы от плетней через улицу, как они производили впечатление на Николая, — производили это же впечатление на Богатенкова, рисовавшего себе в воображении зимнюю Федоровку. «Потемну в школу, потемну из школы, — думал он, — а потом теплая деревянная изба, и тут тебе, под боком, искать не надо, старик страдалец с этаким колоритным мужицким говорком, с этакой видимой мужицкой мудростью и простотою, дескать, это не так да то не так да не этак, а у самого в подполе гранаты, патроны и винтовки еще со времен гражданской…» Он проникался чувством и мыслями, какими, как ему казалось, жил Николай, и чувствовал себя подавленным, так как видел, что, кроме всех иных известных и неизвестных ему обстоятельств, он сам был повинен в том, что случилось с Николаем.
Читать дальше
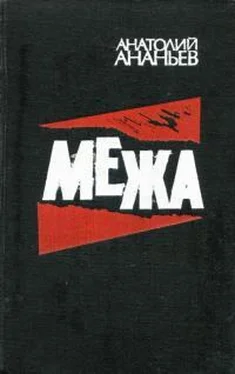
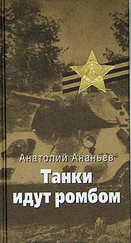




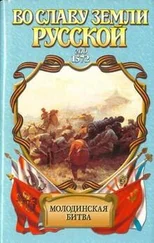

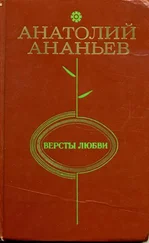
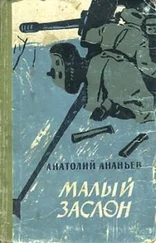

![Анатолий Ананьев - Танки идут ромбом [Роман]](/books/404190/anatolij-ananev-tanki-idut-rombom-roman-thumb.webp)
