Анна и ее подруги не могли стоять на месте и просто смотреть: они бегали от дерева к дереву и, плача, выкрикивали:
— Батюшки! Да батюшки!
— А вы потерпите, родные!
— Маненько потерпите!
— Понатужьтесь и не давайтесь!
Деревья шатались, скрипели и вдруг разом оголялись, превращаясь в придорожные столбы.
— Ваня! Милый! Ты ж — наука. Помоги, — взмолилась Анна и протянула руки к академику, как их протягивает человек через окно к людям, что толпятся у пылающего в огне дома.
— Я, Аннушка… Я все это, — он тоже вскинул руки, показывая на сад, — я все это понимаю… Знаю, что творится. Но я… разум мой в одиночку бессилен.
И Анна зарыдала.
По радио передавались призывы — и рации ловили их:
— Назад! Отступайте на Черные земли. Держитесь ближе к лиманам. Забирайте стога, не считайтесь, кому принадлежат. Все наше — все народное.
В воздухе гудели самолеты — огромные стальные птицы. Они кружились над отарами, сбрасывали сено, валенки, полушубки, питание для людей и аптечки.
Воздух гудел моторами самолетов, а мороз крепчал и шагал быстрее любого самолета.
Обледенение застало отару Егора Пряхина в каких-нибудь тридцати километрах от Разлома, в двадцати — от сада Анны Арбузиной.
Овцы двигались, пока шли по полынку, скованному льдом: копытце еще за что-то цеплялось, но как только попадали на оголенное место, начинали скользить, спотыкаться и падать.
Можно было бы, конечно, загнать всю отару в какой-нибудь сухой лиман. А их тут было немало таких — сухих, уросших высокими побуревшими травами. В таком котловане и продержать овец, как в естественном затишье. Но овцы от двухдневного слюнявого дождя промокли, и шерсть на них походила на прибитый войлок. Уложи такую овцу, и она через час-полтора не в силах будет подняться: шерсть смерзнется, образуется на овце панцирь, как на черепахе… и… и тогда — конец.
Егор Пряхин знал, что в таком случае овцам не надо давать ложиться, вот почему он, избрав сухой длинный лиман, сказал всем:
— Гоните овцу. Не давайте ей ложиться. Упадет — немедленно поднимайте. Ну, чай, не год будет тянуться такое безобразие — мороз и обледенение. Как быстро пришла эта напасть, так быстро и сгинет.
И они гнали овец по кругу. Гнали и день, и два, все ожидая, что «как быстро пришла напасть, так и уйдет». Но напасть не уходила: мороз все давил, все сковывал. Сковывал природу, овец, людей, собак, походные кибитки, волов, запряженных в кибитки.
На третий день первыми отказались двигаться верховые кони: гривы, хвосты, да и все — бока, спины, ноги — все покрылось панцирем льда. Лед лег меж ушей, спустился на лоб, заливал глаза, будто холодным, застывшим тестом… И кони первые отказались: как легли, так и замерли.
Следом за конями отказали волы, везущие кибитки с рацией, с передвижной кухней — они опустили к земле рогатые головы.
Еще передвигались по кругу овцы. Передвигались медленно, еле заметно, будто движется на часах минутная стрелка. Порою встряхивались, стараясь сбросить с себя лишний груз, делая это осторожно, подчиняясь материнскому инстинкту, боясь выкинуть недозревший плод.
За отарой шли чабаны. Они засыпали на ходу и от усталости, и от мороза, и от тяжести ледяной брони, которая наседала на них: на плечи, на голову, на ноги. Но людей поддерживало сознание долга и того, что надо победить, дабы прийти в Разлом с радостью, а не с позором и бедою.
Крепился и вожак отары, видавший виды Митрич: отфыркивался, чаще просил у Егора махорки и, получив порцию, снова становился на свое место — впереди отары.
Но на третий день и он начал сдавать: перестал отфыркиваться, как бы этим говоря: «Все равно, предупреждай не предупреждай, а раз в огонь попал — сгоришь». Затем стал клониться на один бок, да и брел-то, как бредет замученная лягавая собака, отставя зад в сторону.
Заметив все это, Егор Пряхин подошел к Митричу и, стыдя его, проговорил:
— Что же это ты, голова садовая? Ежели ты да я глазки прикроем — все полетит. Это, брат, просто очень даже — ты да я. А вот выдержи. На-ка тебе корочку, — и Егор, достав из кармана последний кусочек хлеба, подал Митричу.
Тот вяло, будто ему протянули камень, понюхал и отвернулся.
— Значит, конец, брат, раз хлеб не берешь, — проговорил Егор и умоляюще попросил: — Потерпи, братуля: ты ляжешь, за тобой и овечки полягут. Понимаешь или не понимаешь? — Он даже нагнулся и посмотрел в уже оловенеющие глаза Митрича, а, выпрямившись, пошел с ним рядом, поддерживая его за рубчатый рог, одетый в ледяной панцирь.
Читать дальше
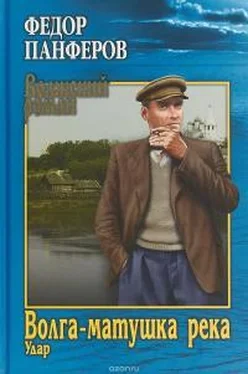


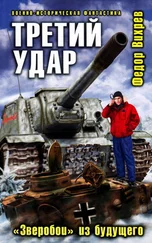





![Федор Панфёров - В стране поверженных [1-я редакция]](/books/393778/fedor-panferov-v-strane-poverzhennyh-1-ya-redakciya-thumb.webp)
![Федор Панфёров - Борьба за мир [2-я редакция]](/books/398428/fedor-panferov-borba-za-mir-2-ya-redakciya-thumb.webp)

