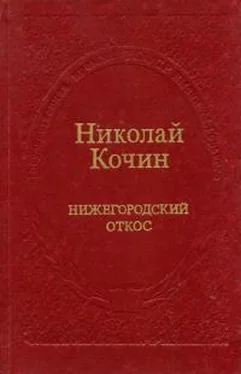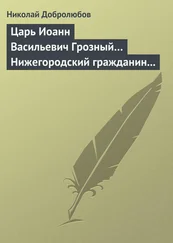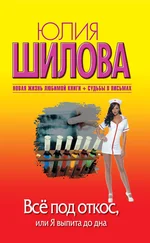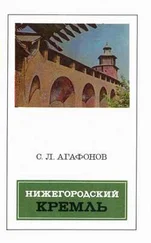Сенька ожил сразу, он угадывал в словах Федора истину. И, затаив дыхание, слушал:
— Вот походишь, походишь на лекции профессора с месяц, все будешь глядеть на него, как баран на новые ворота. Через месяц кое-что у тебя замаячит в мозгах. Через три месяца кое-что даже поймешь. А к концу курса так даже начнешь задавать вопросы. А уж если задаешь вопросы, значит рядом с непонятным лежит кое-что хорошо понятное. Крепись, крепись. Ты же из мужиков. Помни Ломоносова и нашего Кулибина. Они шли вначале совсем неизведанными путями и без всякой помощи. А ты в вузе. Вот тебе совет: профессор имеет обыкновение у себя на дому в философском кружке штудировать «Критику чистого разума». Запишись. Ты в этой книге ничего не поймешь. Но чтение ее, если и не приумножит твои знания, то убедит тебя в том, как труден подлинный путь к настоящей науке. А это — тоже большое открытие. И, кроме того, когда-нибудь надо приучить себя ходить и нехожеными тропами. Не все по указке да на помочах…
На ресницах Сеньки блеснули слезы, слезы благодарности и надежды. Такова, при случае, сила доброго слова. Он стал развязывать узел.
Профессор Зильберов приехал в приволжский город откуда-то с западной окраины России. Его выгнала оттуда война с немцами. Он окончил физико-математический факультет Петербургского университета и философский факультет в Берлинском университете. И преподавал сразу на двух факультетах. На одном — физику, а у филологов — «Введение в философию». Когда его увидел Сенька, профессору было за пятьдесят. Глубокие морщины придавали его лицу выразительность и одухотворенность. На большом орлином носу сверкали очки в золотой оправе, голый череп с высоким лбом лоснился.
Профессор был живой, как юноша, энергично жестикулировал, читал стоя, без конспекта, и был лютым врагом всякой популяризации. Он говорил, что тот, кто хочет уважать науку, должен научиться разговаривать только на ее языке. «Популяризатор, который всегда есть посредственность в науке, принижает популяризируемого мыслителя до себя», — говорил Зильберов. И читал для студентов курс, как читают только для специалистов: «Мысль должна идти чуть поверх студенческой головы, чтобы голова к ней поднималась, а не наоборот». Он до такой степени презирал полуученость, что даже считал здравый житейский смысл неграмотных людей более совершенным и надежным, чем полуинтеллигентность дилетантов. Профессор говорил, что подобно тому, как дети, вращаясь среди взрослых, без знаний грамматики и словарей научаются быстро всем тонкостям человеческой речи, так и студент приучается философствовать, только штудируя самых выдающихся философов. Он не льстил молодежи, он не снисходил до нее. Он считал, что она должна делать усилия и подниматься до него. «Я обучаю не философии, а философствованию. То есть смотреть на вещи с той стороны, с которой еще никто не смотрел. Очень трудно взглянуть на вещи по-новому. Посредственность видит во всякой вещи только то, о чем уже заранее ей сказали. Наоборот, всякий первооткрыватель — художник ли, ученый ли, все равно, — делает свое открытие только тогда, когда не идет по чужому следу».
Студенты на первых порах его принимали за сумасшедшего или, в лучшем случае, за чудака. Недоумевали, возмущались даже. Потом втягивались, их покоряло остроумие профессора, его взыскательность, тогда уже весело и смело вступали с ним в спор. С этого момента он заявлял, что считает свою миссию выполненной. Сенька прошел тот же путь, что и все. Сперва он ненавидел его, потом преодолел эту ненависть, затем полюбил профессора и уж потом вспоминал о нем с благодарностью.
Поборов первое отчаяние, Сенька корпел целыми днями над расшифровкой философских терминов. Сидел на философском кружке и фиксировал в своей памяти — цепкой, девственной памяти деревенского парня — все трудные выражения. Потом он их вскрывал по пособиям и учебникам. Но профессор, узнав об этом, запретил ему читать учебники.
— Чтение казенных «Введений в философию» приучает к легкомыслию, к беспрепятственному скольжению по поверхности. Эта видимость мудрости вреднее очевидного невежества.
И Сенька стал читать «Логику» Гегеля и «Критику чистого разума» Канта. В кружке этом, в сущности, высказывались серьезно и спорили друг с другом только двое: Пашка-философ и Гриша Адамович. Профессор ими явно любовался. Красавец, стройный, умный, речистый, избегающий просторечных выражений, Адамович никогда не говорил «я думаю», но «я нахожусь в твердом убеждении», никогда не произносил «вы неправы», а всегда — «позвольте с вами не согласиться». Из него так и сыпалось, как из рога изобилия: «вещь в себе», «априорная форма познания», «феномен», «ноумен», «категория рассудка»… И когда он выступал и произносил только троим здесь понятную речь своим бархатным басом, внушительно, изящно, неторопливо — все студенты замирали от восторга. Ему возражал Пашка-философ. Он был спиритуалист, убежденный метафизик. Известно, готовился в попы, угодил в педагоги. Он был ученее Адамовича, но ему не прощали семинарской неотесанности, выговора на «о» и категоричности в суждении. «Без метафизических допущений в науке и жизнь превращается в хаос мимолетных субъективных иллюзий, неизвестно чьих», — скандировал он точно на молебне, но никто ему не верил. И нападал он всегда на Канта.
Читать дальше