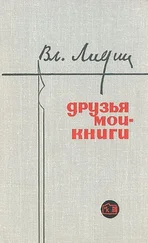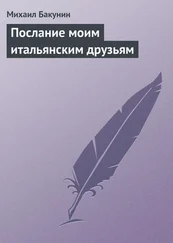— Давай ремень! Ложись!
Ремень с таким свистом рассекает воздух, что я готов поклясться: Гюнтер в эти минуты видит перед собой цыганку и ее загубленного ребенка, старого железнодорожника, который посмел заступиться за нее, а может быть, и своего друга, доктора Леви из Вены…
— Вас ист дас?
С тем же вопросом, который Гюнтер задал полицаю, к нему самому сейчас обратился эсэсовец, обер-лейтенант. Гюнтер Пургель, отряхиваясь от пыли, лихо щелкает каблуками:
— Хайль Гитлер!
— Хайль! Что здесь происходит?
— Эта свинья, — показывает Гюнтер на полицейского, — забыл, кто здесь хозяин.
— Возможно. При других обстоятельствах я бы вас даже поблагодарил, но здесь строжайшим образом запрещено бить полицаев в присутствии пленных. Ясно?
— Яволь, господин обер-лейтенант.
Мы все сидим на земле. Только Аверов и полицай стоят друг против друга, как два подравшихся петуха. Полицаю, видно, не привыкать к таким переделкам: это не первая и, конечно, не последняя его «боевая операция». А Казимир Владимирович стоит с опущенной головой. Он знает — этот тип не скоро отвяжется. Несмотря на нестерпимую жару, Аверов дрожит. Из-под густых бровей смотрит на нас. На мне его взгляд задерживается немного дольше. Мне кажется, что-то надломилось в нем. Теперь, больше чем когда-либо, он нуждается в верном друге и, наверное, сожалеет, что не рассказал мне о своем заступничестве. Он присаживается около меня. Полицай шагает взад и вперед. Аверов выбирает подходящую минуту и спрашивает меня:
— У тебя есть чем защищаться?
— Иголка и бритвенное лезвие.
Иголка — это понятно. Он знает, что я всю зиму шил теплые шапки из старых одеял. Но лезвие? Он смотрит на меня удивленно. Я объясняю:
— Алвардяна помнишь? Это его.
— Не забывай, я на тебя рассчитываю.
— Не сомневайся, Казимир.
Шумова разбирает любопытство. Ему до смерти хочется знать, о чем мы говорим. Он делает вид, что дремлет, глаза закрыты. Но верить этому опасно.
— Эй, ты, поди сюда! — бросает Гюнтер, повернувшись к нам.
Шумов, всегда готовый к услугам, уже стоит на одном колене и, вопросительно улыбаясь, показывает рукой на себя.
— Иди, — подталкивает меня Аверов, — кажется, он имеет в виду тебя.
Кровь отхлынула от сердца. Наверное, вернулся фельдфебель. Если это так, Казимир Владимирович, тогда нам обоим несдобровать…
— Слушаю вас.
— Вы говорите по-немецки?
— Плохо, — отвечаю я.
— А понимать понимаете?
— Немного.
Он подает мне солдатский котелок и показывает на железную бочку с водой, стоящую поблизости.
— Ты мне будет поливай.
Гюнтер раздевается по пояс. Без очков он совсем другой: обросшее лицо кажется меньше и суше, губы тоньше. Глубокие серые глаза смотрят вроде бы строго, но даже когда он сердится, в них нет злобы и ненависти, потому что все время в их глубине прячется насмешливый огонек. У него широкая грудь, крепкие мускулы и гладкая кожа. Из ружья, прислоненного к стенке, он вынимает замок и кладет в карман брюк.
Заметив, что я облизываю пересохшие губы, Гюнтер разрешает мне напиться теплой, тухлой воды из бочки. Я смотрю, как Гюнтер намыливает лицо. Он поворачивает ко мне голову, но глаза у него плотно закрыты.
— Твоя фамилия Леви?
Некоторое время я молчу. Смахнув зеленую пену, вижу в воде свое отражение. Оно колышется вместе с маленькими волнами, поднятыми моим движением. Я и мое отражение — король пик. Но тот все-таки больше похож на человека.
И это исхудавшее, заросшее щетиной существо, не еврей, не татарин, вообще не человек, — это я?
— Моя фамилия Лев.
— А я думал, — говорит он, — что Лев имя, а не фамилия. О Льве Толстом ты слышал?
Оказывается, даже Гюнтер считает нас дикарями.
— Слышал, — отвечаю я.
— Кто ты по профессии?
Уж конечно я ему не стану докладывать, что, если бы не война, мы были бы коллегами.
— Рабочий.
— Ах, так! Будем знакомы. Я педагог. Звать меня Гюнтер, фамилия Пургель. Не станешь ли ты уверять, что слышал и обо мне? — смеется он.
— Да! Вы лингвист, — впервые рискую заговорить с ним по-немецки, повторяя его же собственные слова: — Русская литература хорошая литература! Толстой, Тургенев. — И так же, как он в ту ночь, оглянувшись, говорю тихо, но внятно: — Горький…
— Доннерветтер! Что за чудеса?
— Никаких чудес, господин Пургель. Вы меня уже однажды спасли. Вспомните. Осенняя ночь. Вы стояли на посту, а меня мой товарищ, тоже педагог, тащил в лазарет. Не помните? Осветив меня карманным фонариком, вы сказали: «Рус капут…» Скажите, пожалуйста, больше вы моего друга не встречали?
Читать дальше