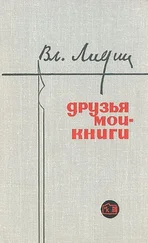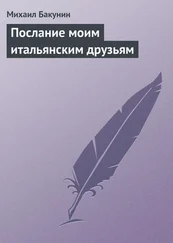Алвардян лежал с полузакрытыми глазами и тяжело дышал.
— Не надо… Знаю, ты прав… Показалось, что другого выхода нет, — говорил он Тихону прерывающимся голосом.
Зоринкин тут же, на койке, туго перевязал рану, затем слегка ударил Алвардяна по носу и сказал:
— Эх ты, глупый мальчишка! А я, старый дурак, говорил с тобой, как с настоящим мужчиной. Молокосос, вот ты кто!
Хорошо, что Зоринкин отвернулся, мне не хотелось, чтобы еще кто-нибудь, кроме меня, заметил слезы, заблестевшие у него на глазах.
Прошло несколько дней. Каждый, кто в силах был вымолвить хоть слово, спрашивал у соседа или у санитара:
— Ну как? Он сказал что-нибудь новое?
«Он» — это Алвардян.
Вечером, свободные от дежурства, сидели мы в комнате санитаров и беседовали. Тихон чинил сапог, я шил шапку. Вдруг в полуоткрытую дверь ворвался крик:
— По фашистам огонь! Огонь! Ура! Смерть фашистам! Бей! Бей их!
Я сразу узнал голос Алвардяна.
Мы бросились во вторую палату. Первым перед нами предстал Кузьма, ошалело моргающий выпученными глазами, — на такой случай он не получил никакой инструкции. Все больные вскочили со своих коек и затаив дыхание, как зачарованные, слушали:
— За нашу Родину! Бей гадов!
Женя в восторге махал нам руками.
— Во дает жизни! Во дает!
Так мы стояли минут пять в полной растерянности. Первым спохватился Глеб и напустился на Кузьму:
— Видишь ведь, больной говорит со сна, что же ты его не разбудишь?
Кузьма начал трясти Алвардяна:
— Ах ты, беда ты моя, проснись!
Все захотели знать, что приснилось Алвардяну. Тот вытер лоб и со стоном ответил:
— Последний бой покоя не дает… Сердце болит…
— Ничего нет удивительного, — сказал мне Степан Шумов, — от такого сна и у здорового может сердце заболеть.
Через несколько часов сон повторился. И потом из ночи в ночь Алвардян оглашал криками лазарет, — казалось, последние остатки его сил сосредоточились теперь в голосе. Только он смыкал глаза, как его начинали мучить кошмары. Больные во всех палатах не спали, не позволяли закрыть дверь, с нетерпением ждали, когда Алвардян начнет говорить. Стоило посмотреть на этих полумертвых людей, не скрывавших радости. Многие повторяли за Женей:
— Во дает! А?
А Алвардян тем временем жаловался Зоринкину:
— Доктор, я от этих снов с ума не сойду? Может, дадите мне что-нибудь, чтобы крепче спать?
— Что мне тебе дать? Снотворное? А где я возьму? Но ты не расстраивайся — что-то не было на моей памяти случая, чтобы кто-нибудь умирал от снов…
Признаться, у меня возникло сомнение насчет этих невероятно стойких кошмаров Алвардяна.
Кузьма плакался мне:
— Не могу его никак разбудить. Я его толкаю, а он кричит: «Мы победим!»
На рассвете мы с Глебом и Тихоном шли к колонке по воду. По-зимнему бледное солнце только что взошло, и снег ослепительно искрился. Мы останавливались, топтались, били ногу об ногу, но мороз нас не щадил — колол и щипал веки, ноздри, пальцы.
— Сегодня дежурю я в палате, — рассказывал Глеб, — только положил голову на стол и задремал, как Алвардян завел свое. Подошел я, смотрю — глаза широко открыты, рукой мне знак подает: погоди, мол, не буди, я еще не все сказал. Трудно было удержаться от смеха, а тут он как закричит: «Смерть фашистам и их приспешникам полицаям!» Я давай трясти его изо всех сил: «Проснись, перестань буянить!» А он протирает глаза и бормочет: «Что случилось? Я опять кричал?»
Я потирал руки, не от мороза, а от восторга, даже забыв на минуту о голоде. Мы взялись за ведра, прошли еще несколько шагов и снова остановились.
— Так, так, значит, он на этот раз и полицаев включил, — довольно произнес Тихон.
В последующие ночи Алвардян изменил свой «репертуар». В перерывах между атаками он стал рассказывать о поражении немцев под Москвой, рассказывал со всеми подробностями, какие нам были известны. У дверей толпились все, кто еще держался на ногах.
— Тихо! — наводил порядок Кузьма. — Еще разбудите, а потом жди, пока ему опять что-нибудь такое приснится.
Кто-то из полицаев донес об Алвардяне в комендатуру. Зоринкину дал знать об этом переводчик. Что делать?
Мы с Тихоном шли, как обычно, по воду.
— Есть выход, — придумал Тихон. — Устроим его к тебе в палату — сыпным тифом он болел, а Зоринкин сообщит в комендатуру, что Алвардян не сегодня завтра умрет.
На том и порешили.
Теперь я каждую свободную минуту проводил у койки друга. В палате все его называли Гришей. Он рассказал мне о своей матери, старой учительнице.
Читать дальше