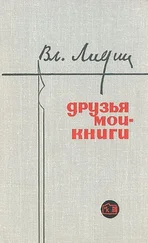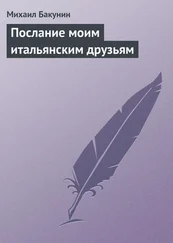И еще один человек, кроме Тоди и отца Лени, всегда стоял у занавеса, когда на манеж должен был выбежать молодой Смигельский. Это сторож цирка Сидор Степанович, глухой старик, лет под восемьдесят, служивший еще у деда Вяльшина.
Сидору Степановичу за последние три десятилетия никто из артистов не нравился.
— Э! — обычно махал он исхудалой дрожащей рукой. Глаза его щурились в улыбке и слезились, а смуглое лицо в крупных морщинах оставалось неподвижным. — Вот в молодости доводилось мне видеть всемирно известного воздушного акробата Эмиля Гравеле — на афишах его именовали Блонденом. Я видел акробатов, исполнявших танцы на канатах, натянутых на большой высоте — между высокими зданиями, городскими башнями, над рекой, — но никто не рискнул показать свой аттракцион на такой высоте, на какой это делал Блонден! И до чего только он, представьте себе, додумался? Ареной своего выступления однажды избрал Ниагарский водопад. Американские дельцы — а шуму наделать они мастера — для этого случая специально соорудили трибуны на двадцать пять тысяч зрителей. Блонден остановился над серединой кипящего водопада и стал показывать, как надо жарить яичницу… Вот это цирк! А сейчас? Со всех сторон на тебя давят стены, а сверху — купол. Нет, такие воздушные полеты — это не фокус… Я стреляный воробей, и на мякине меня не проведешь.
И все же Сидор Степанович не удержался и как-то вечером, степенно сморкаясь в красный носовой платок, заявил отцу Лени:
— Юзеф, вот те крест, из твоего хлопчика вырастет второй Блонден. — Сказал и тут же глуховатым шепотом предупредил: — Только ему ни гу-гу! А то как бы его большие уши еще больше не оттопырились.
Ленины уши всем бросались в глаза, видимо, оттого, что сам он был на редкость красив и пропорционально сложен.
Альберт Хейфец часто разговаривал с Леней по-польски. Однажды он подошел с ним к окну и сказал:
— Леня, постой немного против света. Попробую нарисовать тебя. Смотри, не зазнавайся, но такую фигуру, как у тебя, редко встретишь.
Тодя стоял в стороне и не отрывал глаз от мольберта. Рисунок ему не понравился. Неужели математик думает, что эти черточки и кружочки напоминают живого Леню? А уж его обаяние на бумаге и вовсе не передашь.
Однажды, только Юзеф и Леня Смигельские вышли на ярко освещенный манеж, несколько подгулявших морских офицеров, сидевших в первом ряду, подняли шум и стали кричать, что это не цирк, а жалкий балаган, где дурачат публику.
На арене появился Вяльшин. Он шел уверенной походкой, так как знал, что сейчас ему нечего опасаться: аттракцион Смигельских даже для лучших цирков находка. Жаль только, что шумит партер. Будь это галерка, взяли бы теплую компанию за шиворот и выкинули за дверь.
— Господа офицеры! Пожалуйста, успокойтесь. Если у вас есть претензии, можете после представления зайти ко мне или сразу скажите, чем вы недовольны.
Один из офицеров встал, еле держась на ногах, и начал кричать:
— Что это за фокус, если внизу подвешена защитная сетка? И что это за мачта? У нас на корабле и та намного выше!
Скандал разгорался не на шутку. Вяльшин был вне себя:
— Если мы вас не устраиваем, господа офицеры, можете уйти.
А галерка меж тем разразилась неистовыми аплодисментами. Отовсюду неслись то крики возмущения, то возгласы одобрения. Вяльшин стоял на манеже бледный, без кровинки в лице, и не знал, как утихомирить бушующую публику.
Назавтра директор вызвал Юзефа и предупредил, что если тот не поднимет выше мачту и не уберет защитную сетку, плата будет урезана вдвое.
Близких родственников у Смигельских не было. Но раз в месяц Юзеф шел на почту и львиную долю своего заработка отсылал кому-то в Польшу. Это, должно быть, и вынудило его пойти на риск, играть, как говорится, ва-банк. Но на кон ставились не деньги, а сама жизнь… Юзеф согласился, но с оговоркой, что защитную сетку уберут лишь тогда, когда он один под куполом. Не прошло и недели, как Леня остался круглым сиротой.
Долгое время Леня не работал. Вяльшин проявил необычное для него «великодушие» и разрешил ему ночевать в цирке и питаться вместе со всеми на кухне. Но жить как-то надо было, и Леня, еще не оправившись от горя, снова начал выступать вместе с итальянским першистом Джони.
Долго сидеть на одном месте Джони не мог. Стоило ему поработать недели две, как он впадал в запой, так что терял человеческий облик и вместе со своей неразлучной губной гармошкой валялся в канаве или под забором.
Читать дальше