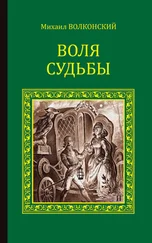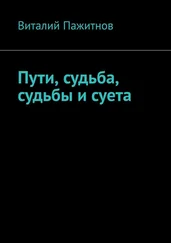— Ну, брат, теперь ты настоящий рубака, — весело улыбается отец, и светлые усы его задорно шевелятся. На голове у отца — повязка. Под повязкой — рана. Это его казак пикой зацепил.
— Больно тебе, папань?
— Теперь ничего, терпимо, — улыбается отец. — А тогда больненько было.
— А ты плакал?
— Нет, брат, не плакал. Это на войне не полагается. Да и некогда. Надо же было того контрика с коня ссадить.
— И ты ссадил?
— А ты как думал?
— Тебе бы, папанька, надо так: того казака ссадить, а меня посадить. На коня-то. Стали бы мы сражаться вместе.
— Ах ты, вояка! — хохочет отец и очень больно, совсем не так, как мамка, освобождает ему нос. — Погодь допрежь батьки в пекло лезть. Вот доведется самому повоевать — узнаешь почем фунт лиха.
— Не хочу я лиха, а хочу в войну играть. Давай с тобой.
— Нет, дружок, я на фронте досыта наигрался. Будь она трижды проклята, эта война!
— А ты, папанька, возьми да больше не воюй. Разве плохо было бы нам с тобой да с мамкой дома?
— А кто же тогда станет контру бить? Если я уйду с войны, другой уйдет — придут сюда враги и все пожгут, а людей — в угон.
— И больших, и маленьких?
— Всех под метелку.
— А куда это в угон? Далеко?
— Так, брат, далеко, что отсюда не видать! — Отец пошевеливал усами, тая усмешку.
— К казакам? У которых пики?
— Если бы к казакам, то это полбеды. Они, лампасники, хоть и немало погубили нашего брата, красноармейца, но все ж таки одумаются, угомонятся. Как-никак народ-то свой, российский. А ну как немец опять на нас попрет?
— Пусть только попробует: вот она, шашка-то!
— Э-э, да ты у меня храбрец. Ну, иди гуляй, герой грядущих битв!
Весело пошевеливая усами, отец уходит в дом и о чем-то начинает шептаться с матерью, а он пытается отыскать кого-нибудь из сверстников, чтобы показать им свою шашку. Но уже вечер, должно быть, все спать легли. Вот чудаки! Охота дрыхнуть, когда так славно можно поиграть в Буденного! Он проскакал на палочке вдоль деревни и вновь примчался к своему двору. Дома о чем-то говорили, и голос у отца был бодряще-ласковый, а мать почему-то всхлипывала и сморкалась.
«Чудная эта мамка, — подумал он. — Папанька дома, а она плачет».
— Э-эй! Даешь Варшаву! Даешь Берлин! Уж врезались мы в Крым! — восклицал он, размахивая шашкой.
Огонек в избе погас, и отец с матерью тихо и таинственно шептались.
О нем забыли, и ему это нравилось. И еще ему нравилось смотреть, как с ветлы, раскинувшей над двором и домом корявые, темно-коричневые ветви, срываются длинные узенькие листья и трепетными плотичками ныряют, плавают в густом от влажной дымки воздухе, пока не опустятся на землю, не сольются с пожухлой муравой.
В огромном стволе ветлы — дупло. Там поселились маленькие совы — сычи. Когда откуда-то из рощи, из-за дремлющего пруда бесшумно подкралась тишина, сычи тихонько вылетели из дупла и неслышно летают в мягком сумраке. И это уже вовсе не сычи, а генералы — враги Советской власти. Почему-то сычи летают тихо, низко. И он гоняется за ними со своей шашкой до тех пор, пока они не улетают за деревню. Это означает, что генералы отступили и больше не посмеют сунуться.
У крыльца торчит большой, разросшийся репей. Да это же тот самый казак, что ударил отца пикой и сделал ему больно. Ведь папанька только не признается, а небось плакал. А может, это совсем и не казак, а немец-чужеземец? Нет, немчура, шалишь, не дам я тебе угнать людей в неметчину!
Изо всех сил размахнувшись шашкой, он срубает лихому чужеземцу голову и с чувством справедливого возмездия важно шагает в избу. Укладываясь спать, он вешает над изголовьем отцовский шлем и втыкает в прохудившееся одеяло свою саблю, как в ножны.
Ровно четыре дня был он счастливейшим человеком во всей деревне. А на пятый рано-рано утром отец ушел. И шлем надел. Осталась только шашка. Но что может значить шашка, да еще деревянная, без шлема и отца? Он ревел, мать плакала, и не было в тот день в деревне человека несчастнее его.
Но настоящее несчастье пришло к ним в дом позднее. Раз как-то зимой, когда страшно выла вьюга и в стропилах недостроенного дома плакал ветер, пришел безрукий почтарь в шинели, как у отца, и молча подал матери какую-то бумагу с серпом и молотом. Мать смотрела на эту бумагу с непонятным страхом. Потом неожиданно упала на скамейку и запричитала резким голосом:
— Умильный ты мой, Арсентьюшка!..
— Не плачь, мамка: слезами горю не поможешь… — совсем по-взрослому сказал он матери, но не выдержал, заплакал сам.
Читать дальше