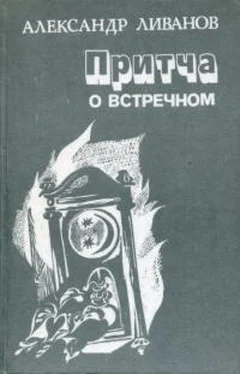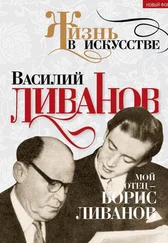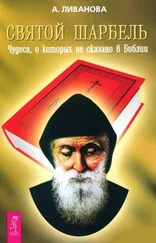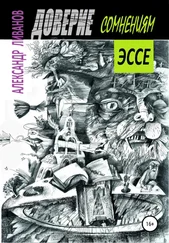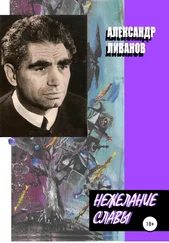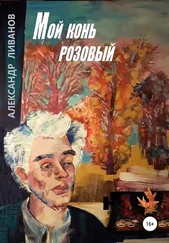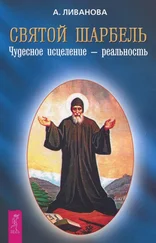Пение — песня искусства, слово — песня личности! В первом случае — речь о свойствах голосовых связок, устройстве горла и т. п. Во втором — об «устройстве души», о ее «содержимом»…
Прелесть, прель, апрель… Есть ли связь между этими словами? Понятно, что прелесть — то, что прелестно, прельстительно. Затем — тут явно слышен лес, слышно то, что пред ним, лесом. Можно понять и то, что прель — упавшая прелесть, апрель — то, что перед новой прелестью. Возможно, что когда-то «прелесть» означала — листву? Что же касается звука «а» в слове «апрель» — что-то тут отголосное из латинского, греческого: а — перед цветеньем, апрель — перед маем!..
«Правда — хорошо, счастье — лучше»… То есть речь об обманном счастье? И каково же оно? Не из тех ли — о ком сказано у Толстого, сразу за эпиграфом «Мне отмщенье, и аз воздам», в начале «Анны Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Подозрительная схожесть у «счастливых» семей!.. Видать, счастье тут основано именно на обмане — от самообмана до обмана других. Видать, ни на чем другом не может держаться такое «унифицированное» счастье!..
И, стало быть, несхожесть несчастливых семей — уповающа! Пусть и нет здесь счастья, но люди здесь зрячие, трезвые, несмиряющиеся и несогласные на обманное счастье, которое, к слову сказать, рушится, как карточный домик, при первом дуновении невзгоды… Сама несхожесть таких семей говорит о личностном начале, его первом, искреннем шаге к поиску подлинного, непохожего, своего, трудного — творческого — счастья. Трудного, но таково все творческое, все настоящее…
В романе — двум, по меньшей мере, несчастливым семьям, Анна — Каренин, Долли — Облонский, противопоставлена одна счастливая семья: Кити — Левин. Но даже у Толстого несчастливые семьи куда как убедительней представлены, чем счастливая!.. Да и то сказать должно, что счастливая семья — еще очень молодая, только-только начавшая жизнь!.. И можем ли быть до конца уверены в счастливой этой семье? На чем оно будет строиться, счастье? На приземленной одержимости хозяйством Кити, варке варенья и покупке породистых коров? На одержимости доходами от имения Левиным? На детях, которых пока нет?.. Тревожно читателю, главное, не верится ему в долговечность этой счастливой семьи. Но уже и сейчас — читатель не испытывает радости от такой — счастливой семьи. Кажется, сам автор, который собственную семью никак не считал — счастливой, — слабо верит в задуманную им счастливую семью, словно по обязанности замысла лишь он безо всякого воодушевления изображает ее счастье! Ведь и вправду, общность интересов доходности — экономически исчисленного — имения и рачительности домашнего хозяйства — какое слабое основание для счастливой семьи! Другого основания — Толстой не встретил, по-видимому…
Василий Розанов много писал «уединенного» и ставил под ним разные пометки: где к нему пришла та или другая неожиданная мысль. Есть даже пометки — «на толчке»…
Что и говорить, по-розановски вполне эффектно и эпатажно. Но, разумеется, дело вовсе не в этом эпатажном «месте» прихода озарения. Дело в самом законе прихода озарений и, проще говоря, неожиданных мыслей. И здесь оговориться должно, что подлинные мысли, те, которые достойны именно так называться, то есть озарения, приходят, как правило, неожиданно! Все это кажется прихотливостью, таинственностью в нашем мышлении, во всей нашей душевной жизни. А мысли продолжают приходить именно так и — дискретно, не ведая, не желая принимать в расчет ни обстоятельства места, ни обстоятельства времени, ни, наконец, обстоятельства образа действия, как и прочую грамматическую пристойную упорядоченность! Мысль — что это? — может, всего лишь момент созревания опыта, пережитого, и перехода его из подсознания в сознание? Такая мысль падает как зрелое яблоко?
Но что вне всякого сомнения — при всей неожиданности и прихотливости прихода — мысли приходят к нам о том, о чем мы думаем!.. Воз, груженный сеном, роняет клоки сена, а груженный песком — сеет песок. И даже из этого простого житейского примера знаем — что эти потери по дороге связаны не столько перегрузкой воза, сколько небрежностью укладки, увязки, заделкой щелей! Впрочем, в природе встречаются и перегрузки, превышения строго регламентируемой нагрузки. Так в перенасыщенном растворе соль снова возвращается к избыточным, выпадающим в осадке кристаллам!
Видимо, мозгу свойственны формы самозащиты как от перегрузок, так и от «небрежных загрузок». Перегрузки, вероятно, связаны с качественным однообразием «информации» — в первую очередь, и лишь во вторую очередь — с самим количеством и объемом «информации»…
Читать дальше