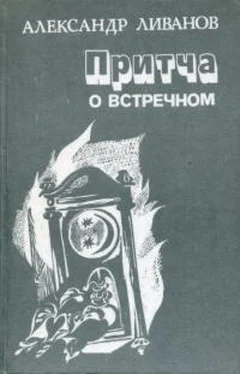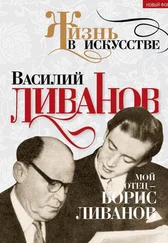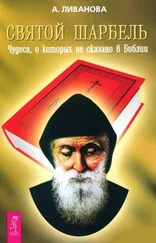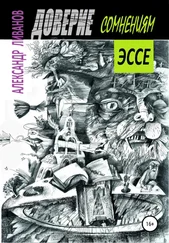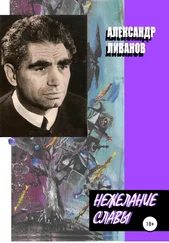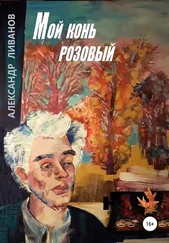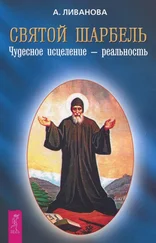Сколько задумчивой и радостной очарованности красотой мира в одном лишь коротком, тихом и скромном до кротости — «мял»! Не агрессивное «рвал», не рассудительное «собирал» — именно «мял», как бы в забытьи, безотчетно, взволнованно, сновиденчески. В поэзии, как в песне, ни звука, ни слова не выкинуть: все важное, все главное. Звуковым образом своим слово «мял» живо напоминает другое, подобное, короткое и кроткое, слово — «мяу»!
Звук — словно из далекого нашего детства, из его первого умиления красотой мира, из нашей сердечной памяти, из ее глубин посреди заносчивой и осуровевшей взрослости. Знать, лишь поэту дано из недр пережитого добыть в чистоте первозданной такую словесную и звуковую форму, воскресить в ней изначальное чувство — и все отдать стиху, чтоб мы — благодаря самому достоверному в нас, благодаря самой духовной основе детства, поверили мысли поэта о красоте бескорыстия жизни, о жизни как любви и приязни ко всему живому как условии счастья!.. Ведь в «мял-мяу» — сам кроткий зов «братьев меньших», сам позыв к нашей человечности, милосердию, надежда, что мы внемлем зову!
Между «целовал я женщин» и «мял цветы» — тоже ощутима ассоциативная, сокровенная, смысловая связь. И нам ясно, что если — цветам подобно и прекрасным, юным, цветущим женщинам (вспомним пушкинское: «Да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас!») случалось нанести обиду — то случалось и это без злого умысла, так же в забытьи, из той же радостной очарованности всем живым, из переполненности душевной и ее одушевленности… Но это состояние — из второй строки — как сама пробужденная совесть — вдруг рвется в резкой протрезвленности реальностью — в третьей строке, где столь активны два — единственных — в строфе звука «р», где все становится отчетливым до пронзительности и помогает осознанию главного, из четвертой строки!.. Право же — целые пространные трактаты о необходимости гуманизма, о красоте как истине, о счастье как гармоничном чувстве себя среди природы — куда меньше нам скажут, чем четыре, как бы задумчиво-рассеянные, но вдохновенно-озаренные строки поэта, которым не дано забвение!
…Неудачи в творчестве (и в литературе, и, полагаю, в любой области деятельности) подчас имеют простейшей причиной — «замедление ритма», утрату полноты эмоциональной и материальной загруженности. Это подобно тому, как падает велосипедист, замедлив вращение педалей, как разбивается самолет, утратив скорость, как захлебывается атака от потери наступающими порыва-упоения — «вперед!» («есть упоение в бою…»!). В творчестве, видать, на его незримых путях расставлены такие же незримые ограничители нагрузки и скорости: «не менее!» Больше — сколько угодно… Страшится творчество недогрузок — а не перегрузок! И, знать, во всяком случае оно стремится к тому состоянию, о котором Пушкин сказал: «Души исполненный полет!»
Прежде чем «исполнить полет» на самолете, на космическом корабле — человек и вправду исполнил душу мечтой и творческой мыслью о полете! Поэзия, видать, единственное достаточное объяснение — хоть и не претендует на учительство! — всего сущего, даже самой поэзии.
Беспримерна творческая продуктивность пушкинской — Болдинской осени! Сначала — бегство от отчаяния в творчество (расстроилась намечавшаяся свадьба), небывалая нагрузка вдохновения. Затем — та же небывалая нагрузка — хотя уже по причине противоположной (радостная — воодушевление по поводу письма невесты с согласием выйти замуж за поэта). Два разных человеческих состояния — но одно и то же творческое состояние. Поэзия побеждает стихии жизни!
Критика Л. спросили — почему он написал хорошую рецензию на плохую новую книгу писателя М. «О покойниках — либо хорошо, либо никак!» — ответил Л.
А М. жил, в ус не дул и готовился издать очередную книгу…
Жаль, что не знаю иностранных языков, не одного какого-нибудь, а именно много языков! Чтоб чувствовать себя в них до того свободным, когда уже можешь судить о духе языка, о многом общем в родном своем языке и других… Ведь и так, имея весьма смутное представление о других языках, то и дело прихожу к представлению, что когда-то язык был у людей един (не спорю с учеными, у которых на этот счет могут быть доказательства против моего), что он разбрелся на свое разноязычие вместе с народами, обособившимися в государствах, в границах, на своей земле от и до… Зная, например, французский, я бы мог сделать суждение о том, почему, например, по-французски езда, путешествие и т. п. — вояж, и почему воз и вожжи в нашем языке, которые тоже «возле» езды, путешествия: вояжа… И кто тут на чьем языке говорит, или же и вправду слова из тех многих, по которым так и видишь в древности и языки, и народы едиными?..
Читать дальше