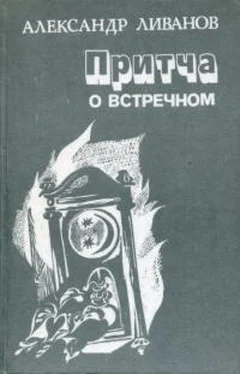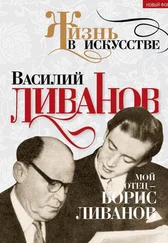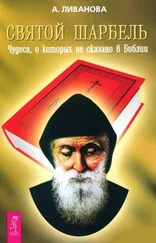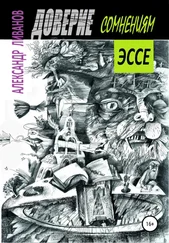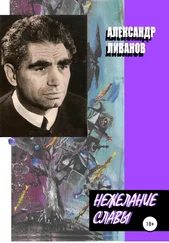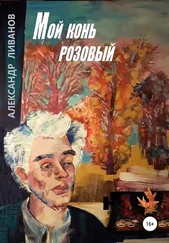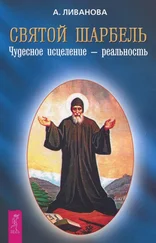Как — что? Прошу — «Мстительницу женщин» — раз, «В тисках Бастилии» — два, «Половой вопрос» профессора Фореля — три… Вот так, знай наших!.. Старушка ахнула — и ручки на грудь сделала. Зачем мне букет моей бабки! Читал я «Выстрел»Либединского? «Трагедийную ночь» Безыменского? Джамбула? Акопа Акопяна?.. Читал, говорю, хотя ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. Она мне: «Мстительница женщин» — дореволюционная бульварщина, для жен полицмейстеров и кухарок! «В тисках Бастилии» — вовсе не про революционеров! А вот «Половой вопрос» — действительно вопрос…
И посеменила, шурша своим черным монашьим платьем, к начальству. Привела такую же старушку, в очках да повальяжней. В две пары глаз смотрят на меня, изучают меня — будто в комсомол принимают…
А должен вам сказать, в библиотеках тогда больше все старушки работали и вправду из бывших, никакая, конечно, не буржуазия, просто грамотные. Кто курсы, кто гимназию до революции кончал. Просвещение в народ несли свято! Изучали читателя, какую бы ему книгу с пользой прочитать, думали. С душой работали — это я не в укор нынешним, большей частью молодым девушкам или студенткам-библиотекарям. Серьезная была профессия — библиотекарь! Да и одевались в черное, белый воротничок, форма служения! Еще, видать, с времен народоволок — Софьи Перовской да Веры Засулич! Милые старушки, скольким я им обязан! Ведь сделали из меня читателя! Начали с «Овода»… Понравилось? Очень! То-то ж, слушаться надо советов библиотекаря. А теперь получай «Десять дней, которые потрясли мир». Только это не беллетристика, это — революция, читать надо обязательно медленно, вдумчиво, что непонятно — выписать, спросить у учительниц, ну у тех же преподавателей ФЗУ. Вот предисловие Ленина, вот предисловие Крупской… Ну, насчет «выписать» — подзагнули мои старушки. Пришлось бы слишком много выписать. Почти переписать! Но, знаете, чем замечательна еще серьезная, всякая хорошая книга? Если не понял, она остается эдакой закладкой в памяти, остается неким императивом на потом… Обязательно к ней вернешься! К иным — неоднократно. Так я возвращаюсь к этой же, к «Десять дней, которые потрясли мир». Дома — на особой полке, среди самых, самых! Правда, для этого «императива на потом» все же нужно «читательское ядро». Из чего оно?.. Конечно, оно, так сказать, вообще из ядра личности. Но обнаружить его в нас иной раз помогает кто-то со стороны. Мне помогла ваша библиотека, незабвенной памяти старушки хлопотуньи… Без них, может, до сих пор читал бы нечто вроде «Мстительницы женщин»… Ну, конечно, осовремененную. Так вот — о ядре, о зерне читателя… Ныне, по-моему, библиотекарши этого не делают. Читатель их интересует лишь с точки зрения формуляра: срок возврата книги, состояние ее, очередности на новинку, витрина, выставка, и вот встречи с писателем — «приезжайте выступить»… Вот я и выступаю-возвышаюсь, вы сидите, я стою, поделили удобства и почет. Мы-то поладим, но вернуть бы нам задушевность тех отношений между читателем и библиотекарем-другом, библиотекарем-советчиком, наставником!.. Поинтересовался я — классику больше берут в период экзаменов студенты… А на детективы запись: очередь!.. Я не против детективов вообще. Может, они лучше всего могут приохотить к чтению, когда человек — есть же такие убогие, нет, несчастные — их не срамить, их пожалеть надо — вообще не читают! Но когда детективы теснят классику — я против! Чему они научат без классики? В ней дух народной жизни, история, поэзия, опыт — душа народа!
Но вернемся к старушкам. Та, что меня обязала помыться, — мы с нею потом подружились. На выходной из общежития к ней в гости домой зван был. Я ведь из детдомовцев. Потом в активе был, это все здесь, в этих стенах! Помогал, разбирал, тогда бесконечные чистки были книжного фонда. Кто-то с полок снимался, кто-то ставился — немного запальчивое время было, наша юность!.. Есенина снимали — куда-то на «ща». Открыл, стал читать — и оторваться не мог. Переписал, дружкам по ФЗУ давал, попадало мне… Всяко было. Но интерес прежних библиотекарш к читателю был человеческим, ныне, не в обиду вам сказать, — он «формулярный»… Понимаю, все другое, время, книги, читатели… И все же я за работу с читателем как конкретным человеком, с конкретной профессией, с индивидуальностью, если уж не — личностью, а не за работу с читателями вообще лишь — плановые мероприятия, отчеты, стенды, выставки, конференции, — ближе к массе, дальше от человека!.. Да, об облике прежних книг. Страницы на углах завертывались барашком, их разглаживали, все равно книжка разбухала, лохматилась, ее наряжали в газетный переплет — кто сам догадывался, кто по совету библиотекарш. Так она шла по рукам, в газетной спецовке, пока не замусолится газета — спецовка менялась. На страницах — как ни старайся — следы машинного масла. Ведь шла книга с нами на смену, на заводскую вахту, читалась в обеденный перерыв. Читалась в обеденный перерыв вслух — книга жила с нами от гудка до гудка: книга — друг! А здание, особняк библиотеки, — еще с дореволюционным стажем — тогда мне величественным показывалось! Храмом, дворцом!.. Ныне как приехал, как глянул — выше сорока лет дистанция — боже, какое милое, но какое маленькое здание («Нам строят еще в другом месте большое помещение!» — подала реплику заведующая городской библиотекой. Отнюдь не старушка, отнюдь не в черном — молодая, энергичная, как и подобает человеку, чем-то вообще заведующему!). Я не о том, я о масштабах детства и времени… О встрече с детством, которая всегда грустна, о новом масштабе задушевности… Ну тут я с ходу ничего, видно, путного не скажу. Тут писательское слово нужно: а оно небыстрое, трудное, зреющее из отчетливого чувства. А я волнуюсь…
Читать дальше