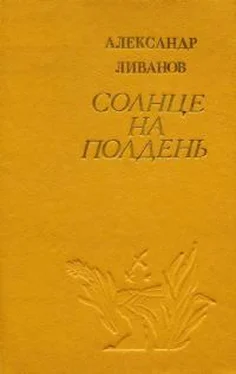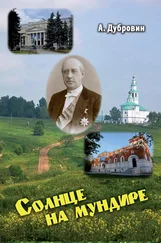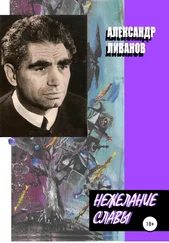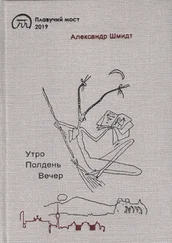Волок проехался по Гриппе! Прокатился по ней всеми своими тросами, узлами и жердями! И во всем виноват я, мой недосмотр. Все считают, что я ворон считал, не слушал окрика Гриппы и погнал лошадей дальше рубежа! А разве объяснишь им? Я никогда не умел оправдываться…
Горечь сжимает мне сердце, слезы застят глаза… От пощечины пылает щека, жжет подглазница. Пусть, пусть считают, что я виноват! Уеду, обратно вернусь в детдом. Только тете Клаве и Леману объясню, что это не я, что лошади понесли…
Я стою один, всеми покинутый, все хлопочут возле Гриппы. Мужики стоят поодаль, смотрят, стараясь что-нибудь разглядеть сквозь тесный круг женщин, обступивших у бочки с водой пострадавшую. Женщины быстры на солидарность: злоязычье ли, сочувствие ли.
Наконец Гриппа взмахивает руками — будто разгребает неглубокую воду, чтоб выбраться на поверхность, и выходит из бабьего круга. Теперь ее обступили мужики — во главе с Жебраком. Они пытаются рассмотреть ссадины на руках скирдовщицы, о чем-то спрашивают… Гриппа от них отмахивается — чего, мол, насели?
— А при чем малый? — вдруг слышу я голос Гриппы. — Оце ото гедзь укусил, мабуть, коняку… Малый — справный, зазря не оговаривайте. Я усе бачыла…
И как это она рассмотрела овода? Да еще с такой высоты?..
— Кони, воны и понеслысь… Кости цилы, ну и нехай…
И вдруг замечает, что работа стоит, что все заняты ею. Она опять взмахивает руками и прижимает их к груди.
— Господи, да що це вон таке! Хиба так можно!.. Молотьба же, люды!..
Тоня, прикладывавшая свой мокрый платочек под мой затекший глаз, отдает красивый платочек мне и идет запускать трактор; по пути что-то говорит резкое машинисту. Тот, втянув голову и согнувшись, лындает за нею, что-то мямлит, — похоже, оправдывается. Блатогон долговязый… Ну и тяжелая у него рука!..
Что за сумасшедший день такой! Заговорил машинист, заговорила Гриппа, — никогда от них никто не слышал таких длинных речей! Может, мой единственный фингал под глазом не такая уж большая плата за то, чтоб сразу два человека обрели дар речи?
Тоня рывком, сердито, поворачивает заводную ручку, оборачивается — молча смотрит на все еще торчащего рядом машиниста. Обычно прямой и длинный, как жердь в волоке, он теперь согнулся в дугу и в растерянности топчется возле Тони. Она к коробке скоростей — и он туда, она к карбюратору — и он за нею.
— Он кто вам — брат?
— Да! Брат! — в лицо машинисту бросает Тоня. Наконец это надоедает ей, она простирает руку в мою сторону: иди, мол, с ним объясняйся! Приноси свои извинения — если их примут!
Между тем женщины все еще ухаживают за пострадавшей. На быструю руку, почти на ходу, штопают ей порванную кофту. В прореху порванной кофты вижу огромную ссадину на спине скирдовщицы, а в середине кровоточащий порез. «Это — от троса», — думаю я, переминаясь с ноги на ногу. Подошедший Жебрак только на минутку опередил машиниста.
— Лошади понесли? — спрашивает он. — Гедзь укусил? Агриппина Федоровна сказала, что ты не виноват. А что сам молчал? Язык проглотил, да? Сам виноват! В гордеца играешь, да?..
Я молча смотрю в печальные глаза Жебрака, смотрю прямо, стараясь не мигать, не отводя трусливо взгляда. Как подобает детдомовцу, как учил меня герой Перекопа Леман…
— Ну, ладно… Не обижайся… Всякое бывает… Иди работай, — говорит мне Жебрак, — а после работы сгоняй лошадей на ставок, выкупай их, помой их хорошенько зеленым мылом… А если где ранки — смажешь солидолом. Гедзи кусают потных и запаршивленных лошадей… На все есть причины…
Надо же, с тракторами не знал я такого конфуза, как с паршивыми лошадками!
Возвращаюсь к работе, унося в ушах, что «гедзи кусают потных и запаршивленных лошадей». Выходит, и впрямь, — «учись не до старости, а до смерти!» А Жебрак, хоть и не сумел он взять Варшаву у белополяков, он мужик, выходит, — ничего. И в лошадях знает толк!.. И справедливый. И… Не зря, значит, Марчук с ним водится. Правда, все до него замедленно доходит. И после всех.
— А что у тебя под глазом? Синяк? О передок стукнулся? — слышу я за спиной.
С такими людьми, как Жебрак, говорить — самое легкое! Сами спрашивают, сами отвечают. Или это он так подсказывает мне ответ? Я молчу. Пусть Жебрак играет сам в свою игру. Я молчу и, ни слова не говоря, протягиваю все еще торчащему здесь, опять онемевшему машинисту красивый, уже почти сухой платочек Тони. Пусть он вернет платочек трактористке. Я нарочно не называю по имени Тоню. Этим я как бы возвожу барьер между нею — и им, приезжим машинистом, который сам колдует своим та-хо-мет-ром, а путного ничего никому не объяснит. И зря он увивается за Тоней. Уж она-то его раскусила. Жмот он, вот кто. Держит все в секрете — как бы у него хлеб не отбили! Как бы вдруг Жебрак не вздумал бы обойтись без него: два трудодня, заработок не шуточный. Столько пишут только одному Жебраку! Нет, он нехороший человек, — уверен, что и Шура так бы сказал… Блатогон, а не машинист! И зря он приморячился. Все равно, видать, блатогон. Я их нюхом чую.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу