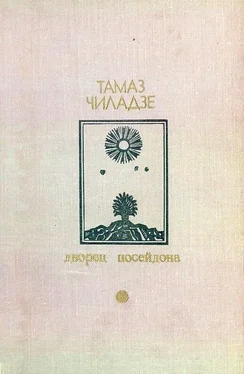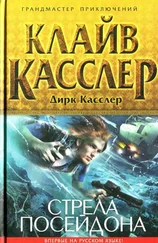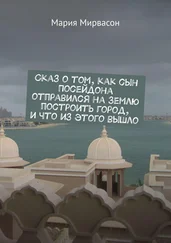Я молчал, и мой беззвучный призыв, терзавший только мой слух, не мог разбить стены молчания. Прежде я не знал этого чувства. Прежде я, как озеро, был недвижим. Было солнце, были звезды, но они только и были что солнцем и звездами. Я походил на узника, оставшегося в тюрьме, из которой все бежали — надсмотрщики и заключенные. Я сам изнутри запирал дверь, которую раньше запирал мой тюремщик, И я считал себя свободным только потому, что держал в руке ключ от своей камеры! И вот сегодня этого узника вытолкали из тюрьмы, показали ему небо, и он побежал, не обращая внимания на сбитые в кровь ноги, побежал, чтобы грудью столкнуться с небом. Ему это кажется возможным, и он счастлив от одной этой мысли. В отличие от него, я знал, что это невозможно, исключено, и невозможность эта скреплена законами и твердо установившейся моралью. Сколько раз в невыносимый зной, доведенный до безумия раскаленным асфальтом и бетоном, я мечтал полежать на прохладной зеленой траве, но меня останавливала табличка: краснощекий человек предостерегающе поднимал ладонь: лежать на траве воспрещается! Разве можно запретить человеку лежать на траве? А сейчас недоступным было большое человеческое счастье — твоя любовь!
Вот так я мысленно с тобой разговаривал и наивно надеялся, что ты меня услышишь или хотя бы почувствуешь на себе мой неотступный взгляд и посмотришь в мою сторону. Но все мои слова ударялись о непроницаемую стену и возвращались назад слабым эхом, разжеванные каменными челюстями стены, высосанные и пустые.
Этот день в конце концов наступил, и значительно раньше, чем я предполагал. А мне казалось, что все будет куда болезненнее…
— Гига, что с тобой? — спросила Лия.
— Мне пора, — поднялась Софико.
— Ни в коем случае, — заволновалась Лия, — я уже накрыла стол.
— Зачем вы беспокоились…
— Что за беспокойство! У нас всегда гости, не помню случая, чтобы мы обедали или ужинали без гостей. Верно, Гига?
— Да, — подтвердил я. Мне уже было все равно.
— Что-то у вас настроение изменилось, — заметила Софико, — вы не устали?
— Напротив, я в прекрасном настроении. Если угодно, включите в программу и пение. Вы не слышали, как я пою?
— Гига! — Лия такими глазами на меня взглянула, что я сразу пришел в себя.
— Мы вас никуда не пустим, — заверил я Софико. — Вы должны с нами поужинать.
Мы сели за стол, и я тотчас схватился за коньяк.
— Я пью за наше знакомство, — чокнувшись с Софико, я выпил коньяк до дна, налил и снова выпил.
У вас, наверное, сложилось впечатление, что я люблю выпить. Нет, пью я очень редко, когда попадаю в нелепое положение. Впрочем, не так уж часто я влипаю в подобные истории.
— Закуси, — Лия протянула мне кусок жареного цыпленка. — Сколько времени продлится передача? — обратилась она к Софико.
— Час и десять минут.
— Десять минут прибавили.
— Где Мамука? — спросил я.
— Смотрит телевизор.
Телевизор у нас стоял в лоджии. Там был его храм, и мой сын служил в этом святилище безмолвным послушником. Может, оценив такую жертву, и был ко мне милостив бог телевидения…
Выпитый коньяк давал о себе знать. Я смотрел на женщин и думал: «Что плохого в многоженстве? Сидели бы сейчас две моих жены и мирно ворковали — ничего страшного!» Почувствовав себя султаном, я надолго погрузился в блаженный туман, пока на поверхность не выступили обрывки действительности, как островерхие скалы из воды или обломки затонувшего корабля. Внезапно меня охватил невыразимый ужас: неужели я совсем один, отшельник, задохнувшийся в блестящем мусоре успеха и славы, неужели Софико только затем и пришла, чтобы рассчитаться со мной за все, показать мне мое истинное лицо, которого я давно уже не различал. Неужели это все только спектакль? Разумеется, спектакль, в котором я, вот уже который год, играю одну и ту же роль с заученным текстом, с неизменной мимикой. Сегодня в пьесе появилось еще одно действующее лицо — память, но ее выставили из театра по моей настоятельной просьбе, как прямолинейного, бесцеремонного грубияна-актера.
— Нет, — произнес я громко, — нет. Ничего не выйдет.
— Почему? — удивилась Лия. — Актеры прочтут отрывки из твоего романа. Совсем не плохо.
— Прекрасная идея! — согласилась Софико.
И тут я почувствовал, какой кошмар — многоженство. Лия была единственной и неповторимой, моей надеждой и утешением. Она одна понимала меня и поэтому не понимала ничего другого. Именно за это я проникся к ней безграничной благодарностью. Она — царица тишины и покоя, убивающая все сомнения и сожаления, как мух. И верно, поглядите, повсюду вокруг меня: в кухне, в коридоре, в гараже, в столовой с потолка свисают кудрявые липучки, и на них бесчисленные дохлые бабочки и мухи, самые бесполезные и вредные насекомые.
Читать дальше