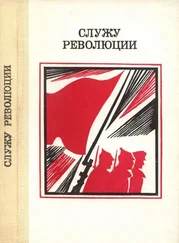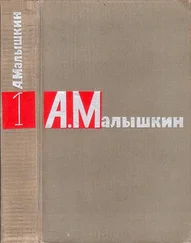У подъезда в сумерках порхал шерстяной, нетающий снег, первый снег за осень, белым налетом набивался в расщелины булыжной мостовой. Хлопья его сияли насквозь в цветных, леденцовых огоньках иллюминации. Что-то из прошлого поднимала мрачно-красноватая озаренность камней.
Когда машина тронулась, Соустин сказал:
— Мне подумалось: вот мы два дня кипим, суетимся, нервничаем, готовим праздничный номер. Телефонные звонки, спешка, головы трещат, и так везде и всюду. А ведь не каждый вспомнит, переживет по-настоящему, от сердца, что вот ровно-ровно двенадцать лет назад был такой же вечер, в сумерках так же падал снег и какие-то солдаты сходились к Зимнему дворцу…
До Калабуха дошло, он насупленно, с достоинством кивнул.
— Да, да, вспомнить есть что, товарищ Соустин.
Машина замедленно шла центральными площадями. В колоннах Большого театра пылали знамена как бы над уходящей вглубь толпой. Окончивший свою работу народ кружил в разноцветном снегу, скапливался у трамвайных и автобусных остановок, рвался ехать и жить. Для иных после службы только начинался настоящий день. В семью, в семью, где такой уютный, почти солнечный круг падает из-под абажура на обеденный стол! Пусть хоть на вечер оглохнут чувства, немного присомкнутся глаза, и вот ты на глухом милом острове, ты ерошишь головенки своим ребятишкам, тебе несут чай, захочешь развернешь «Анну Каренину», поговоришь с женой… Над сутолокой, над огнями вечерних улиц летел курносый, насупленно-деловой профиль Калабуха. Калабух продолжал мыслить вслух. Да, ровно двенадцать лет назад — то был настоящий, народной глубиною рожденный напор! Но от восстания революция переходит в глубокие органические процессы, в новые скачки.
— Наше дело — подталкивать и верно направлять эти неизбежные процессы, товарищ Соустин, а отнюдь не пресекать и не насиловать их, — вот в чем правильное революционное руководство!
Может быть, огни и воспоминания слишком возбудили Калабуха, развязали его? Но ведь он был из тех немногих ценимых, которым позволялось чуть-чуть больше, чем прочим.
Вот он, Калабух, полулежал, покачиваясь. Конечно, и его тело, тело сурового партийца, тоже было человеческое, любило побаловаться, покачаться в мягкой машине. Соустин прощал, потому что понимал. И можно было чувствовать себя успокоенно под крылом этого большого, прочного человека. За ним мерная государственная жизнь, без ломки, без будоражных бросков, а значит без тех пересмотров и неизвестностей, которые могут свалиться на голову завтра же (Зыбин!) и еще дальше отбросить Соустина от вожделенной, не дающейся цели, без которой не жить… Да, органические победоносные силы возьмут свое!
Вспомнил:
— Кстати, товарищ Калабух, я без вас сдал подпередовую в набор. Там одно выражение вычеркнуто.
Калабух обернулся, мрачнея.
— Как вычеркнуто?
— То место, где говорится, чтобы… наступать на кулака, не подрывая производственных возможностей деревни. Вот именно это «не подрывая» вычеркнуто, судя по зеленому карандашу, товарищем Зыбиным.
Калабух помолчал, потом фыркнул:
— Т-тупи-ца!
Машина подплывала к Остоженке, к истокам бульваров. Послеслужебный народ доезжал здесь уже до домов, распложался с трамваев по улицам; мимо фонарей хлопчатым севом шел снег. Машина взлетала горбом Остоженки к переулку, где жил Калабух. Но он раздумал ехать домой и хмуро спросил Соустина, подвезти ли его на Арбат, к квартире.
Соустин решил сойти здесь: ему нужно еще потолкаться по улицам — для праздничного отчета. Он понимал, что теперь не до него.
Машина, фырча, заворачивала: шоферу было приказано — немедленно в типографию. Калабух, едва кивнув, сидел громовержцем.
Пусть… В лицо Соустину пахнуло снегом, свободой. Ольга обитала неподалеку, и этот поворот улицы, и монастырей на углу, и разбег трамвая сжились с торопливым, поздним ее шагом, с торопливым прикосновеньем щеки на прощанье. Не потому ли и сошел здесь, чтобы побыть на этой возвращенной ему земле?
А земля голубела, багровела от разрастающихся, ввысь вскинутых огней.
…Народ двигал свою большую тесноту медленно, величаво. Те же, что и в будни, каракулевые воротники, те же модницы, у которых юбки расхлестывались на ходу, обнажая крутые, телесного цвета коленки, парнишки в ядовито-клетчатых кепках, пожилые, выбравшиеся на улицу полностью, с семейными гнездами; но все это гуляло сегодня иначе, освещаемое непрерывным заревом сверху, гуляло население фантастической и вместе с тем реальной, противопоставленной всему миру страны.
Читать дальше