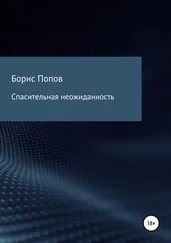— Вот та-ак. Недельку лежать не двигаясь. Буду заходить. И никаких премьер, — повторил он, вставая.
Красновидов поймал его за руку.
— Доктор, обращаюсь к вашей профессиональной этике: ни звука о моей болезни. Город невелик, сплетня быстрокрыла. Прошу вас. Иначе в субботу я буду на премьере в любом состоянии.
Врач вскинул бровки.
— Как это? Я же вам выписал больничный. Лежите себе.
— Мне больничный не нужен, доктор, — Красновидов говорил раздраженно.
— Не нужен? Как это?
— Так это. Я здоров.
— Здоровы?!
Доктор прищурил глаз.
— Хм. Странно. А зачем же вы…
— Я прошу об одном, — остановил его Красновидов. — Никому ни звука. Вы меня поняли?
Нет, он не понял. Он не понял, зачем это больной потащится на премьеру в таком состоянии. Чудаки эти артисты. Как дети. С капризами. Но просьба сохранить тайну — право больного, и он ее, конечно, сохранит.
Назавтра Ксюша вызвала другого врача.
У касс стояла очередь, билетов в продаже уже не оставалось. Лежали стопки пригласительных, которые разойдутся по рукам перед спектаклем. День был безветренный, теплый. Светило предзакатное солнце. Настроение праздничное, приподнятое. И приятное волнение от нетерпения: скорее бы.
Удивляло, конечно, всех, что Красновидов в дни артподготовки даже не заявился в театр. Рогов посылал за ним Могилевскую, но Ксения Анатольевна, приоткрыв дверь, шепнула: «Он очень занят», и секретарша ушла.
Рогов решил, что делается это ради спокойствия артистов. Всевидящее око худрука дополняет волнение всякими ненужными сомнениями; посмотрел пристрастно — недоумение, беспристрастно — смущение. Пожалуй, правильно, что его нет. «Режиссер умер в актере» — не фраза. Закон. Пусть будет так. И Рогов, прихватив молчаливого нынче, не по обыкновению хмурого Изюмова (волнуется, решил Рогов), пошел с ним осматривать одежду сцены, артистические уборные, где висели — у каждого актера на своем месте — костюмы, лежали у зеркал гримировочные принадлежности. Проверили с помрежем повестки, сигналы.
На площади у театра скапливались грузовики, автобусы, газики, персональные «Победы».
В шесть часов пришли артисты, отметились у помрежа в явочном списке и разбрелись по своим местам.
Ксения Шинкарева держалась из последних сил.
Дома, прощаясь с Олегом, она понимала, чувствовала всей душой, как ему тяжело. Мало того, что, сокрушающая могучий, выносливый организм боль приносит ему нечеловеческие страдания, — он не может присутствовать на премьере! Это казалось ей непереносимым. Но Олег, отпуская Ксюшу на спектакль, крепко стиснул ее руки.
— Не думай обо мне, Ксюшенька, думай сейчас о роли. Это самое главное.
Она села на кровать, склонилась над ним, поцеловала в щеки, в лоб.
— Я люблю тебя, моя самая дорогая на свете. Перенесу все, если ты будешь сегодня умницей и хорошо сыграешь.
— Я постараюсь, родной, постараюсь.
— Роману скажи, чтобы после спектакля зашел. — Он помолчал, превозмогая боль. — Пусть последит.
Ксюша дала ему таблетку.
— Тебе пора. Ни пуха… — Красновидов поцеловал ей руку. — С премьерой!
Ксюша с усилием приподнялась.
— Тебя тоже.
И тихо прикрыла за собой дверь. Проходя по коридору театра, она встретилась с Роговым.
— Придет? — спросил тот.
— Наверное, — ответила Ксюша.
Больше ничего сказать не смогла и, боясь, что не сдержится, опрометью бросилась в артистическую уборную.
Красновидов не в силах уже был бороться с болью, и она стала еще острее. Приходил врач, долго стучался, слышалось из-за двери: «Больной! Кто-нибудь есть дома?»
Красновидов не мог встать с постели, чтобы открыть. Потом стихло. Он пребывал в полузабытьи. Находил силы лишь поглядывать на часы, они у него на руке, а рука на груди, почти у самого подбородка.
Девятнадцать пятнадцать. Первый звонок… И радостно и тревожно забилось сердце. По телу едва ощутимая дрожь. Пять минут до второго звонка. Целая вечность. Можно еще успеть и до театра дойти. Он попробовал встать — ничего не получилось. Если бы его кто-нибудь сейчас приподнял, помог бы дойти, доползти. Полжизни за один вечер! За один лишь миг! Только бы услышать тишину зала, увидеть взрыв света на сцене, а там…
Темное небо нависло над ареной стадиона. Ослепительно ярко метнулись на сцену лучи прожекторов, музыка смешалась с завыванием ветра и шумом дождя, неслышно заработали лебедки, и четыре могучие стальные руки поднимают над землей прозрачный квадрат, на котором покоится ажурная вышка. Парашютом распахнулся над сценой тент, и еще два прожектора, освещая его, врезались в небо. Напоминало световой салют, салют искателям Большой нефти. Тысячи зрителей разразились аплодисментами. Потом почти пугающая тишина. Вот оно! Началось… Красновидов лежал переполненный радостью, небывалой радостью…
Читать дальше




![Борис Попов - Неожиданность. Тетралогия [СИ]](/books/414678/boris-popov-neozhidannost-tetralogiya-si-thumb.webp)