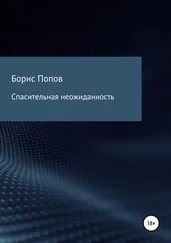В министерстве поговаривали о восстановлении здания Драматического театра на старом месте. Стоял вопрос на коллегии о возвращении труппы Красновидова в родной дом. Это известие докатилось и до Крутогорска, обсуждалось на производственной летучке театра. В протоколе зафиксировано: «Лучших условий для творческого роста театра, как в Крутогорске, не найти. Родной дом здесь, в театре «Арена». Копия протокола была отправлена в министерство.
И вскоре в Крутогорск прислали еще одного представителя из главка. Это был не тот Леша, не разбиравший, где право, где лево. В этот раз инспектировать театр явился человек солидный, с дипломом искусствоведа, разбирающийся в тонкой механике театрального дела, преисполненный желания получить широкое представление о жизни и труде всего творческого организма «Арены». Он добился встречи с художественным руководителем, с директором, состоялась беседа и с заведующим труппой.
Инспектор много записывал, подробно расспрашивал, и видно было, что каждая мелочь вызывала в нем живое любопытство. Но с Валдаевым, видимо, инспектор допустил этическую оплошность: задушевной беседы не получилось. Инспектор знал Валдаева по Драматическому театру, любил как актера, в жизни представлял его почему-то жуиром, любителем театральных анекдотов и преферансистом, а вот как заведующего труппой не знал вообще. Гость старался склонить Валдаева на беседу полуделовую, облегченную, эдакого чайного характера. И когда разговор уже заканчивался, инспектор шутливо коснулся темы, которая Валдаеву показалась бестактной.
— А как вы ответите, Виктор Иванович, тем, кто считает, что у вас не растят, а… ну, что ли, высиживают актеров; приведись-де им попасть в другой театральный коллектив — и они не приживутся, не адаптируются?
Валдаев начал долго раскуривать трубку, начиркал целую горку спичек и тем вывел инспектора из равновесия, он и без ответа все понял. Но слово было сказано. После основательной затяжки Виктор Иванович с присущей ему сдержанностью сказал:
— Я им никак не отвечу, и несколько странно, что вы коснулись этого вопроса. Вам, чувствую, не до конца еще удалось ознакомиться с особенностями нашего театра. Я постараюсь помочь.
Валдаев сделал паузу, пыхнул трубкой.
— Ну, во-первых, было бы справедливее спросить, приживутся ли актеры других театров в нашей «Арене»? Я позволю себе ответить: не все. Но опустим это. В отношении высиживания. Ответьте, пожалуйста, тем, кого это волнует, что мы не инкубатор создали, а театр. На усмотрение злыдней, лезущих к нам с черного хода, продемонстрирую одну лишь сторону нашей жизни. Эти высиженные, как вы изволили выразиться, без оглядки, без принуждения пускаются в казахстанские степи, где не ступала еще нога актера. Там и приткнуться-то негде, не то что концерты давать. Давали. Невзирая на трудности. И здорово. Как в стационаре. Не ныли, не просились домой, не симулировали. Далее. Где, в каком другом театре нашлись добровольцы махнуть в экспедицию по льду Иртыша, по тайге и болотам, без дорог, без просек; бродом, наудалую в поисках зимовщиков, затерянных в дебрях лесных группками в пятнадцать — двадцать человек?..
Он опять пыхнул трубкой.
— Закон — не разглагольствовать о жизни, а помогать ее строить, одухотворять ее — уже органично слился с существом театра… Вот, пожалуй, и все.
Валдаев выколотил пепел из трубки, прочистил ее маленьким ежиком и положил на пепельницу. Инспектор чувствовал себя неловко. Он извинился и, снимая возникшую натянутость, задал еще один вопрос.
— Вы недавно провели студийный конкурс, сообщество ваше пополнилось свежими силами. Скажите, а отсев за этот период был? По линии профессиональной либо дисциплинарной.
— Был, — ответил Валдаев, — по линии, — он надавил на слово «линии», — дисциплинарной. Студиец явился на спектакль в нетрезвом виде. Мы его исключили из студии, сняли с ролей и выходов в театре и перевели на должность рабочего сцены. В течение месяца он сделал три ценных рационализаторских предложения, работает безупречно, выпивать бросил. По-видимому, взыскание мы с него снимем.
— Спасибо.
И они расстались.
И чем популярнее становилась марка «Арены» и заметней вырисовывалось художественное лицо театра, тем больше одолевало Красновидова необъяснимое, но глубокое чувство беспокойства, отдаленно напоминавшего, быть может, то, как любящая мать вдруг замечает, что дитя ее выросло уже из коротких штанишек, стало (так незаметно!) взрослым, самостоятельным, но для матери остается по-прежнему малым ребенком, хрупким, незащищенным. Ее неотступно мучает: как же оно будет жить? Первая буря сломит, малое горе душу сомнет.
Читать дальше




![Борис Попов - Неожиданность. Тетралогия [СИ]](/books/414678/boris-popov-neozhidannost-tetralogiya-si-thumb.webp)