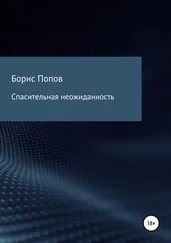Наверное, в сердце художника есть что-то материнское, если каждая новая работа, взлелеянная, всхоленная бессонным трудом, муками поиска, ввергает его в тревожные раздумья: как оно, его детище, будет жить? Какие бури будут трепать-испытывать его на стойкость, выдержку и долговечность? Не себя охранял Красновидов, не свое реноме. Он ложился на амбразуру, оберегая дело, неоценимо-тяжелый труд своих соратников.
И оберегал во имя театра мечту, которая покамест еще на макете, и он и сейчас не очень убежден, что она близка к осуществлению, но он ею жил, ею силен был в каждодневном неутомимом горении.
Он знал: иные поставят лыко в строку: дескать, а как же ты на своей арене насчет жизни человеческого духа? Ведь испарится дух на свежем-то воздухе. И театр, дескать, не футбол, болельщиков не приобретешь. Приобрету, возражал он невидимым скептикам, если театр будет рождать благородные страсти, глубоко вскрывать сущность жизни. Приобрету! И тут же, съедаемый сомнениями, сокрушенно признавался: поднимут, зубоскалы, вой, дадут мне по башке. Он даже поделился этим с Борисоглебским. Тот оказался более категоричным.
— Ты этих щелкоперров побольше слушай, — ярился Борисоглебский. — Они дают направление, а ты делай наоборот, и все будет правильно. Ваша театральная брратия, всякие там Стругацкие — наррод такой. Зубоскальство для них — защитная среда. И любят, ссобаки, удобства, только чтоб не по целине. Без риска. Рискнешь — из кресла вышибут. А без кресла они, как я без трости — три шага пройду и завалюсь, хха!
И даже малая поддержка вновь окрыляла Красновидова, он бежал к своему макету и часами возился с ним. Клеил, выпиливал, из сотен спичек, гвоздиков, фанерных уголков мастерил трибуны, на зеленом сукне монтировал подъемники, лесенки. Тонкими лесками подтягивался плексигласовый квадрат.
А в голове рождались занимательнейшие режиссерские проекты. Он уже видел на этом прозрачном квадрате загримированных актеров, репетировал какие-то не написанные еще сцены, губы его непроизвольно нашептывали реплики, целые монологи, он играл один за всех и слышал дыхание, шелест трибун и видел, как темное небо сыпало звездами на квадрат сцены и они мотыльками сгорали в лучах прожекторов. Только время! Оно сочилось, как песок сквозь пальцы. Уплотнить, уплотнить его, чтобы в сутки вмещалось два, три дня. И где бы занять хоть немножечко сил. Да конечно же у Ксюши!
И тут другая мысль больно ужалила сердце: «А ведь я ей совсем не уделяю времени. И она молчаливо терпит. Когда мы в последний раз были в кино? Неделю назад. Нет, месяц уже прошел, если не больше. Так же нельзя! Я не могу жить без нее, а живу без нее. Что же это?»
Ксюша сама не знала, как много она ему дала. Не знала, что только пламень любви ее и поддерживает в нем силы; выжег всю накипь, всю скверну из его жизни, он стал озаренней, возвышенней думать о ней и о людях. Он любил ее, Ксюшу, всю, во всем. Любил ее голос, глаза, волосы, ее ум, тело — воплощение женственности.
В этот раз он не мог дождаться, когда Ксюша вернется домой со спектакля. И сценарий был не в сценарий, и думать ни о чем не думалось. Ну что ему поделать? Просить прощения? Еще и еще раз поклясться в любви, а потом возвращаться, как всегда, к одному и тому же: дела — и у него нет времени? И все останется по-прежнему, он снова будет т а м, а не с нею. Жалость, угрызения совести от невозместимой утраты будут по-прежнему терзать его и раздваивать.
Она вошла возбужденная, шумная, озорная. Увидев его, сразу смолкла, подошла, обняла, поцеловала, села рядом.
— Ты нездоров? Или что со сценарием? Ты расстроен?
Бесконечными вопросами она хотела сама угадать, что с ним, а он только мотал головой: нет, нет… Нет.
— Почему ты такой сумрачный? Мне нельзя знать?
Красновидов взял ее руки в свои, расцеловал их, прижал к себе, жаркую, манящую, и замер… И уже ни о чем не мог говорить, думать, и все терзания его испарились. Была бесконечная Ксюша, ее ласка, дыхание и невесомая, как пух, нежность. Плавая в неге, он услышал:
— А теперь скажи, что тебя угнетает? Нет, не раздумывай, а сразу скажи как себе.
Отрезвев, Красновидов громко и строго признался:
— Ксюша, я совсем не уделяю тебе времени.
Звонко, переполненная счастьем, Ксюша рассмеялась. Положила ему на глаза указательные пальцы.
— Ты мой незрячий, мой король самоедов.
Сняла пальцы и уставилась ему в глаза.
— Ты отдаешь мне все свое время и еще тебе мало?
— Ксюшка, ты лукавишь.
Читать дальше




![Борис Попов - Неожиданность. Тетралогия [СИ]](/books/414678/boris-popov-neozhidannost-tetralogiya-si-thumb.webp)