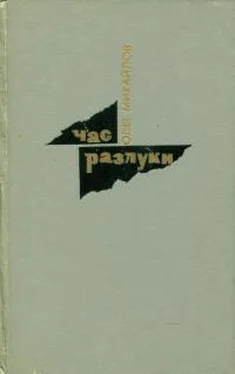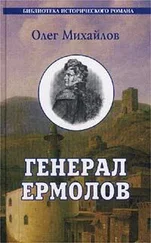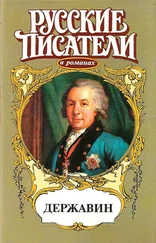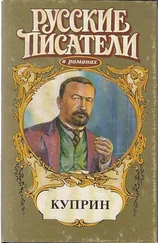— Как ты думаешь узнает нас Деська или нет?
Он механически отвечал, удивляясь тому, как улыбаются вокруг люди, как звонко раздается по парку детский смех, как ярко светит солнце, не давая тени даже пенсионерам, игравшим под липами в неизбежные шахматы.
— Смотри, идут! — преувеличенно радостно сказала мама.
Впереди трусила Деська — почтенная старушка в бакенбардах. За ней рассеянно шла длинноногая племянница Алексея, помахивая коробкой с тортом. Вышагивала Лена под ручку с гигантом-мужем, оба загоревшие, веселые.
А сзади, отстав шагов на десять, что было сил, бежал Мудрейший.
Отец! Он галопировал, сцепив за спиной руки и уронив голову на грудь. Уже не только пальцы, а все его тело содрогалось, мучимое болезнью Паркинсона. И аллея тотчас же явила Алексею чреду умирания плоти: от наивного и доброго поручика, украшенного боевым «Георгием», к мужчине в расцвете сил, военному инженеру второго ранга, который называл Алешу плюгашом, таскал на сильной шее и вызывал благоговение новенькой, пахнувшей кожей кобурой и тяжелой литой командирской пряжкой и уже — ближе! ближе! — высокий и еще стройный подстарок в английской рыжей шинели у паровоза, провожавший Алешу из отпуска в Курск, в Суворовское училище; наконец, беспомощный старец с полупотухшим взглядом. Он медленно бежал через парк, неся в себе все прежние образы, словно некий неумолимый фотограф раз за разом вытаскивал из ванночки с проявителем снимки одного и того же лица через промежутки в двадцать лет. Исхудав до девяноста килограммов (таким он был только в плену, работая в каменоломнях), отец утратил сходство с медведем.
В маминой квартирке, в большой комнате с очень низким потолком, где от прежней, довоенной тишинской жизни остался лишь портрет прабабки, написанный маслом каким-то крепостным мальчиком, по преданию ставшим затем знаменитостью. Мудрейший долго приземлялся, подобно аэростату, переливаясь плотью в тонкой старческой оболочке. Он скатывался с низкого дивана, его обкладывали подушками, и вот уже гигантским младенцем, с подвязанным слюнявчиком, он принимался за обед. Ленин муж, как всегда, поражал отчима количеством съеденного, а Алексей с Колей опорожняли бутылку «Московской», вызывая неодобрительное мурчание Мудрейшего:
— Да вы стали настоящие пьяницы…
Он оживлялся только, когда разговаривал с ухаживающей за ним Леной, начинал вспоминать:
— Неужели забыла? Как я привез мешок продуктов? Да не может быть! Ведь голодали. Помнишь в тридцать третьем?..
— Папа! — корила его Лена. — Ведь меня еще на свете не было…
— Тьфу, черт! — виновато улыбался Мудрейший. — Это я тебя с Валентиной спутал…
После чая полагался домашний концерт, в котором участвовал Коля со своей молоденькой женой, Ленин муж, испускавший неуправляемые звуки чудовищной силы. Мудрейший рассеянно следил за ними и, казалось, отсутствовал. Сострадая ему, Валентина отзывалась из-за пианино:
— Николай! Ты нам споешь что-нибудь?
Теперь е г о просили спеть!
— А что? — слабо, даже с недоумением произносил он.
— Да хотя бы «Птичью свадьбу»…
Она взяла один знакомый аккорд, другой: «В лесу стоял и шум и гам, справлялась птичья свадьба там! Тир-лим-пам-пам, тир-лим-пам-пам, справлялась птичья свадьба там…» Когда-то это была коронная шуточная песенка отца. Мощный голос и дар характерного актера позволяли с блеском разыграть беззаботный мюзикл. Слушателю являлись грач-жених и невеста — утка с хохолком, курица, которая всю ночь мечтала, «как грач амурится», соловей, ревновавший утку, дрозд-остряк, любитель коньяка; танцевали вальс кулик и томная гагара, а затем — гвоздь номера, — отец исполнял с пением за чижика и невесту моднейший танец двадцатых годов: шимми-шимми.
Мадмуазель, прошу я вашей чести,
Шимми протанцуем с вами вместе…
Отец вздрогнул, дернулся, исчез туск в его глазах. Он приподнялся, тут же откачнулся на диван, но могучая рука Коли снова утвердила его на ногах. Он с надеждой оглядел всех, подался вперед.
Нет, даже не голос, а слабое дребезжание, в котором не угадывалось ни единой музыкальной ноты, вырвалось у него. С немой мольбой посмотрел он на Валентину, та взяла аккорд тоном ниже, Мудрейший снова не попал в такт, как в уходящий поезд, и вслед ему испустил жалобный и безнадежный стон. Он беззвучно плакал, колеблясь своим все еще большим телом. Коля и его жена отвернулись. И с приступом внезапной нежности, жалости и сострадания к отцу Алексей увидел, что плачет и отчим.
Читать дальше