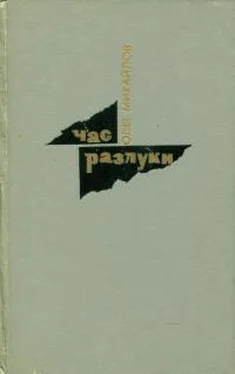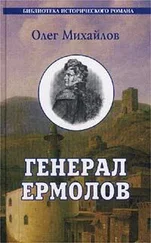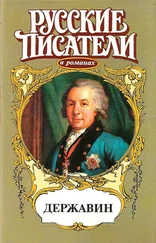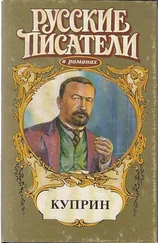Пятилетний Алеша привычно внимал раскатам его баса, перекрывающего звон и грохот трамваев. Окна были распахнуты, и московское жаркое лето заполнило комнату запахом разогретого асфальта, городской пыли, бензина. С последнего, девятого, этажа, пребыванием на котором Алеша страшно гордился, открывался вид на Москву: море деревянных домиков с зелеными дворами, дальше — серебрящиеся окна электричек Белорусской дороги, полоска Бегов, где крошечными катышками, мелькали лошади, за ней уже невидимое поле Аэропорта, куда изредка садились с жужжанием самолеты.
Алеша полз по отцовской ноге, вытянутой неподвижным бревном, по твердому, сотрясаемому толчками диафрагмы животу, по необъятной груди. Вот он остановился и со сладким ужасом, с замиранием стал глядеть на зажмуренное, напряженное лицо, на огромный рот, в глубине которого, за прекрасными белыми зубами, когда прижимался язык, слабо шевелился другой — маленький и загадочный язычок…
Это давнее воспоминание, этот восторг от песни и от глубокого рубинового цвета крупной командирской звезды на отцовской фуражке странным, волшебным образом связано с другим и уже необъяснимым. Был летний день, отец крепко спал на кровати, а из стенного шкафа, из ванной комнаты, перейдя коридор из двери в дверь, вышла собака на человеческих ногах. Алексей видит ее и сейчас: высокая и сухопарая, гладкая рыжая лоснящаяся шерсть, длинные вислые уши, большие орехового цвета глаза. Не в силах пошевелиться, охваченный ни с чем не сравнимым ужасом, сидел Алеша на детском стульчике. Собака медленно подошла, наклонилась, жарко дыша ему в лицо, и укусила в шею.
Алеша очнулся от морока и дико закричал. Вскочил отец, поднял его на руки, бегал по комнатам, напевая: «Лейся да лейся, белое вино…» А он все искал, куда же девалась, где спряталась собака. И несколько месяцев после того его мучили кошмары, каких не мог бы придумать ни один сказочник: из стенного шкафа по ночам выползали немыслимые, чудища, заполняя собою квартиру, подбираясь к его кроватке.
Вот когда приобрел Алексей страх темноты и одиночества, преследовавший его до той поры, пока не бросила Алена…
4
«Алеша!
Это моя первая и последняя просьба. Пожалуйста, выслушай меня. Я пишу не потому, что мне тут плохо. Просто я знала (но была упрямой) и наконец поняла, что мы должны быть вместе. Наш развод был ошибкой, необъяснимой никем. Мне не хватает наших разговоров, прогулок перед сном и всей той жизни, которая была раньше. А я все еще живу ею.
Подумай серьезно, может быть, нам объединиться — для спасения друг друга. Но надо начать новую, совсем другую жизнь, полную уважения, снисхождения и понимания в отношении друг к другу.
Может быть, тебе хочется (тайно) начать новую жизнь? Это, конечно, заманчиво, но помни: и страшно. Ты снова будешь идти вслепую. Я вспоминаю рассказанный тобой сон, когда я шла, не видя, что впереди пропасть. Вот это и есть новая жизнь. Ведь надо привыкать к совершенно чужому человеку из непонятного тебе окружения, и в конечном итоге — нет ничего общего. Так получилось у меня.
Я готова снести все и заново переделать нашу с тобой жизнь. Но тут действовать возможно лишь вместе и сообща, а сначала все хорошо и серьезно продумать. Для себя я уже все решила. Я хочу быть только с тобой.
Твоя бабуля».
Он читал это письмо, удивляясь странной пустоте: ни радости, ни удивления.
Вечером ожидались гости. Сестра наконец переехала с семейством к Мудрейшему, и они хотели у него отметить это событие. Алексей взял авоську, вышел на улицу и, когда возвращался, нагруженный продуктами и пивом, его окликнула соседка по подъезду.
— Тебя можно поздравить, Алеша!
— Да с чем же? — не удивился, а испугался он.
— Ты же скоро станешь отцом!
— Это еще что за чудеса?
— Не притворяйся. Твоя Алена была у врачихи в поликлинике. И я сама от нее слышала: все идет прекрасно. Давно пора! Поздравляю от всей души!
5
Алексей сидел с мамой на лавочке, в курчатовском парке, ожидая появления всего тишинского семейства.
Теперь, оставшись один, он стал чаще и охотнее навещать мать и отчима, боль постепенно отпускала, — они переставали раздражать его. Правда, все еще торопился куда-то: ехал к ним — злился на шофера автобуса: «Чего чешется?»; приезжал и через десять минут не находил себе места, его снова тащило, но куда? Мама с детским простодушием старалась развлечь его, занять разговорами. Лена с мужем, дочкой и даже собачкой ездили на юг, оставив на Тишинке Мудрейшего, и теперь мама интересовалась:
Читать дальше