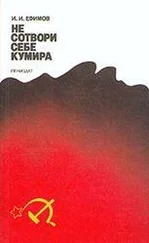— Ты же так закулачилась, что и в люди перестала выходить…
— Присаживайся, пожалуйста. — Лида смахнула тряпкой крошки с табуретки, застелила чистым полотенцем голубой квадрат доски.
— Слыхала, слыхала, что за Левком сохнешь до сих пор…
— То мое господнее наказание, — Лида облокотилась на сундук и склонила голову.
— Да, еле живой Даруга вырвался из Освенцима. Худорба! Одни ребра торчат, да и те покалечены. Начали было понемногу срастаться. Вышел вместе со всеми землянки от снежного заноса освобождать… Надорвался. Теперь лежит пластом. Тетка Крига выхаживает, козьим молоком отпаивает…
— Господи! Ну, почему же он не бережет себя? Умирать будет, а не скажет, что у него болит…
— Поправится. Кость у него крепкая, мясом обрастет…
— Устиньюшка, спасибо тебе, что принесла хоть крохотную весточку о нем. Живу, как видишь, с Григорием, а душой — с Левком. Казню, терзаю себя: опомнись, ведь у тебя дитя, муж… Я хотела было сама к тебе заглянуть, излить свою тоску. Как здорово, что ты так вовремя пришла. В одиночестве я рехнусь… Матери боюсь и заикнуться о чем-либо… Как только намекну о своей печали, она меня проклянет. Наверное, судьба такая — всю жизнь промаюсь с чужим мне Григорием. Расспросить бы у людей, как это они живут не любя… Откуда у них берется терпение? Ведь надо быть камнем, чтобы каждый день, до скончания, угождать нелюбу…
— Лидочек-цветочек, взаимоуважение выше любви. Любовь не вечна. Словно яблоня, отцветет и засохнет. Я любви вовсе не признаю. Семья держится только на уважении, доверии, честности.
Казалось, Лида очутилась на безлюдном перекрестке, не зная, что делать, куда податься. Опрометчиво примеряла на себя, как новые платья в магазине, чужие судьбы, непохожие друг на друга: авось что-нибудь почерпнет поучительного, толкового… Но — увы!
Крихта с Харитей живут просто, бесхитростно, живут любовью, дышат ею. А для Устиньи и Покотька взаимное уважение превыше всего.
К какому же берегу ей, Лиде, приставать? Ведь у нее нет к Жгуре ни любви, ни тени уважения. И чем дольше они живут под одной крышей, тем неумолимее обычное отчуждение перерастает в отвращение…
Как же быть? Ожесточиться и замкнуться? Не носиться же со своей любовью, словно курица с яйцом… Как ненавидела и презирала она себя…
Да, нужно коленопреклонно попросить матушку, чтобы она передала свой многотрудный опыт супружеской жизни непослушной дочери, выскочившей замуж вопреки родительскому благословению.
И вот однажды они просидели всю ночь напролет, не сомкнув ни на минуту глаз, и мать, как бы исповедуясь перед взрослой дочерью, поведала ей о своей судьбе.
…Отец Марьяны, Яков Цаберябой, был бедняком из бедняков, но упорно не признавал этого. Вислоухий, плотный, похожий на дородный гриб, с большим кругом лысины — днем, как говорим, в ней отражалось солнце, а ночью — луна. Безбровый: выдергал по волосинке, когда был чем-то разгневан. Молчаливый, понурый, он изредка едко подшучивал над собой:
— Мы нищенством богаты! Я, Настасья да шесть алчущих ртов… Скоро нам и уши обгрызут: Игнатий, Ефим, Матрена, Прасковья, Иван, Марьяна… Кыш на спорыш, голопузая армия! — покрикивал он на детвору.
Мать Марьяны, Настасья, худая, тощая, будто свита из одних сухожилий. Выразительные глаза всегда светились кротким смирением.
Яков безбожно ревновал жену. Поздоровается ли она с соседом нежнее, чем обычно, или сама себе загадочно улыбнется — так и знай: будет ссора, будет буча…
В Крутояровке все, от мала до велика, знали шутливое изречение Настасьи: «Иди не иди к куму в гости — все равно идол поколотит…»
Среди своих голодранцев Яков больше всех любил Марьянку: ласточкой щебетала, порхала возле него. Бог наделил ее талантом ясновидения. Стоит ему, главе семьи, полновластному хозяину двора, чего-то вкусненького пожелать, как дочка уже и догадалась: «Батя, я попрошу мамку, чтобы она вам наварила украинского борща с курятиной и забелила сметаной…» Или: «У вас поясница болит? Давайте я ее натру керосином и солью…»
Яков сам лично отвез свою семнадцатилетнюю любимицу в Карловку на заработки, вручил добрым людям, приказал дочке быть умницей, послушной, уважительной, почтительной, не отлынивать от работы, долго не задерживаться, а возвращаться домой.
Ровно через год, на покрова, Марьяна вернулась на отцовский двор, да еще и не одна, а с крохотным ребеночком в подоле…
— Байстрюка принесла?! — взбеленился, чуть ли не задохнулся от злости отец. Он заорал с такой силой — на конце села услышали его вопль.
Читать дальше