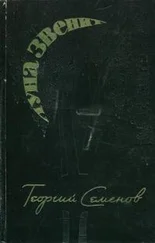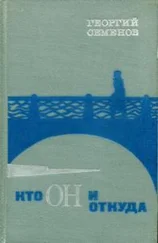Поздно ночью с особенным, озорным каким-то треском и тарахтением трактор ворвался в спящий поселок, в тихую его улочку, освещенную одиноким фонарем, и, играя переливчатыми огнями в стеклах темных окон, подкатил к егерскому дому. Мотор его работал уж много часов подряд, жадно сжигая солярку, но Василий и не думал его выключать. В лучах забрызганных фар опять задымились выхлопные газы, смутно заблестел покрытый изморосью бруснично-красный автомобиль, такой же темный, как и спящий дом.
Пока сошли на землю, пока прощались с Василием, пока он разворачивался на собственном своем тракторе, высвечивая окна дома, в одном из этих окошек засветился вдруг злобный, как всем показалось, желтый огонек, будто хозяйка, проснувшись среди ночи, послала всем проклятие. Радостно заскулила за забором собака.
Среди ночи, сытый и полупьяный, разморенный усталостью охотник, приглаживая рукой измятые под беретом упруго вьющиеся волосы, лег на низенький матрас в темной половине, слыша, как товарищ его, опьянев, о чем-то тихо и страстно все еще говорит с хозяином, о чем-то спорит с ним, что-то доказывает, потягивая крепкое вино из стакана. Под этот говорок он блаженно потянулся на скрипучем матрасе, как маленький ребенок, которого родители, оставшиеся за столом, уложили спать, и вдруг увидел в косых лучах желтого света, пробивавшегося из-за перегородки, в теплом полумраке спящую за занавеской женщину, которая днем кормила дочку супом.
Она спала, раскинувшись под жарким одеялом, и он увидел лишь золотистое ее, округло-точеное колено, отблескивающее упругой кожей.
Он закрыл глаза и улыбнулся в смущении — так близко и так таинственно тихо спала чужая женщина, выпростав из-под стеганого одеяла ногу и не подозревая, что ее может увидеть он, вернувшийся из леса в неурочный час.
Все смешалось в его сознании, все чувства пришли опять в смятение, и он, не понимая, для чего ему все это нужно: ехать за тридевять земель, жечь бензин, рисковать на обгонах, торопиться, чтобы залезть в грязную тележку и трястись по бездорожью, а потом стрелять и ранить вальдшнепа, прилетевшего в эти гиблые леса с юга, тащиться по тяжелому полю в мертвую деревню, освещать фонариком нищету разоренного дома, наткнуться взглядом на ручную поделку ушедших из жизни людей, увидеть в ней что-то важное для души, а после всего этого лежать на продавленном, скрипучем матрасе, пропахшем чужим потом, слышать спорящих за стенкой товарищей и в радостном удивлении смотреть краешком глаза на обнаженное колено спящей женщины, которую он не успел даже рассмотреть как следует днем, — не понимая, для чего все это нужно ему, он между тем чувствовал, что запомнит теперь на всю жизнь эту странную ночь с томящими душу подробностями, с ее запахами, звуками, страданиями, радостями, сомнениями, которые вплетались в эту ночь как неотъемлемые ее части, и что никогда он уже не спутает эту ночь с другими ночами и зорями… Он чувствовал, что именно эта ночь была очень нужна ему в жизни: ночь с убитым вальдшнепом, с деревянной рогулькой, называющейся пальцем, и с этой ничего не подозревающей, крепко спящей за ситцевыми занавесками женщиной, недавно родившей девочку с плавающими голубыми глазами.
Зачем?
Он еще раз хотел взглянуть на спящую женщину, но глаза его уже так тяжело и плотно закрылись, что он никак не мог справиться с ними, — улыбка пробежала по всему телу, и он в счастливом и блаженном неведении удивленно провалился в сои.
Вялая улыбка брезжит на его измученном неземной уже заботой лице. Улыбается он чему-то очень далекому и нереальному — так далек и нереален женский голосок в телефонной трубке, дрожащей в его руке, обтянутой сухой пятнистой кожей.
— Я-то? Хорошо. И чувствую себя тоже хорошо, хожу в сквер, отдыхаю там на скамеечке… Вот так, милая, ты о себе-то мне расскажи-ка лучше. Совсем забыла меня. Совсем! Я понимаю, семья, заботы разные… Зашла бы все-таки. Соскучился я до тоски. Вот и заходи, потолкуем о твоих неприятностях, может, что-нибудь и придумаем вместе. Ладно, жду, милая. Не обмани. Очень буду ждать… Как праздника. Вот… Целую тебя. Сразу после работы? Это, значит, в половине седьмого вечера? Хорошо, моя красавица.
Он кладет дрожащую трубку на рычаг автомата, улыбка угасает на морщинистом лице, он ее словно бы пережевывает бесцветными губами и проглатывает с отвращением. И с этим обычным теперь выражением какой-то брезгливости на лице идет по тротуару, прижимаясь к стенам домов. Розовые, воспаленные на ветру глаза его поблескивают голубенькой слезкой. Цементного цвета габардиновое пальто старого покроя с жировыми пятнами на лацканах болтается, как кавалерийская шинель, прикрывая ноги чуть ли не до щиколоток. Плечи обвисли, а из обтрепанных рукавов видны только кончики заострившихся пальцев. Ботинки шаркают по асфальту, шаг его короток и неуверен. Старческие, немощные заботы сплелись в сплошное страдание на его лице — ему в ходьбе теперь приходится беспокоиться о том, как бы не упасть, не оступиться на уличном переходе, успеть дойти до противоположного тротуара, пока горит зеленый свет. Серая, вытертая фетровая шляпа с просолившейся лентой и шелковое, скользко прячущееся под воротником узенькое кашне. Тонкие поля шляпы волнисты и давно уже неуправляемы, некогда модный излом заострился, а сам колпак промялся по форме черепа.
Читать дальше



![Георгий Семёнов - Путешествие души [Журнальный вариант]](/books/73286/georgij-semenov-puteshestvie-dushi-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)