Было много сивучей. Они вползали на льдины, лежали тяжелыми рыжими мешками, лениво поворачивая маленькие собачьи головы. На закате секачи ревели, вскидывали желтозубые горячие пасти к сырой хмари неба. И тоскливее, холоднее, неуютнее становилось на берегу и в море.
Мужчины собрались на охоту. Утром они столкнули лодку и ушли во льды от устья речки. Скоро из плотного тумана, точно сквозь ватную стену, стали пробиваться тупые выстрелы. Наська считала их, потом сбилась. Один раз отец брал Наську с собой, и она запомнила, как сивучи по-кошачьи топорщили усы, неуклюже елозили по льду, гулко бултыхались в черных полыньях… К обеду все стихло, а еще через полчаса у самого берега послышался говор. Наська почуяла беду, бросилась к воде.
Лодка стояла задрав нос на песок, позади нее покачивались две округлые сивучьи туши. А на брезенте, мокром, задубелом, лежал Иван. Наська увидела его застывшие, обезумевшие от страха глаза, безвольно открытий рот… Он стонал. Отец и Коржов растерянно суетились, поднимали его, сталкивались лбами и опускали, как только слышался вскрик. Сапог на левой ноге у Ивана был разорван и поверху перетянут обрывком сети, жирно набрякшим кровью. Наська стала помогать отцу и Коржову, в жалости и забывчивости приговаривая:
— Потерпи, родненький.
Его отнесли к Коржовым. Там Наська узнала: Иван поскользнулся на льдине и прострелил себе ногу.
Наська вошла в переднюю, закрыла дверь и остановилась. Иван спал, скрестив руки на груди и строго нахмурив рыжеватые брови. Глаза запали в темные ямки, давно не бритые щеки, казалось, были подвязаны от подбородка к ушам рыжеватой тряпкой. Пухло забинтованная нога Ивана лежала на скрученном валиком одеяле, напоминала большой разношенный валенок. Между низеньким столиком и кроватью белели новенькие костыли…
Тихонько подойдя к кровати, Наська села на остро скрипнувшую табуретку. У Ивана болезненно дрогнули губы, но он не проснулся. Наська огляделась, прислушалась. Она привыкла к тишине — дома, в поселке. Говорило лишь море — днем, ночью, даже в самую тихую погоду. Сейчас оно хрустко всплескивало под берегом, внизу, и, наверное, от него по потолку пробегали из угла в угол волны расплывчатого света.
На столике, у изголовья, лежали затертые, мелко исписанные карандашом тетрадные листки. Наська наклонилась, прочитала: «Проповедь № 2». Ниже еле различила несколько строчек: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться… Посмотрите на воронов: они не сеют, не ткут; нет у них хранилищ, ни житниц, и бог питает их. Вы не гораздо ли лучше их?..» Наське подумалось: и вправду, брат Василий никогда не работает. Он и сейчас сидит на крыльце, греет, теребит белыми длинными пальцами бороду, пошучивает, а Валентина, оголив до плеч руки и подоткнув подол, копает картошку. Он приходит, когда Коржов на «тони у коряги»… Наську мучали догадки, ей было нехорошо от какого-то внутреннего своего зла; чтобы освободиться, она быстро тронула еще не остывшими с улицы пальцами желтую, точно неживую руку Ивана.
Он проснулся сразу, мутно глянул на нее и, просветлев, проговорил:
— А я ждал, ждал…
Опершись на локоть и подложив под плечо подушку, Иван с застывшей, не своей улыбкой уставился на Наську. Этот взгляд, охватывавший всю ее разом, бесстыдный и чуточку виноватый, был знаком Наське, она побаивалась его.
— Ты что, в баптисты пошел?
— Мне все одно… Пригласили — и пошел. — Иван задергался, тоненько захихикал, сморщился и стал похож на своего отца. — Кому я нужен, калека? В профсоюз не успел вступить. А братья — пожалуйста, сочувствуют, помогают. — Иван кинул взгляд вверх, к полутемному углу передней. — Глянь, икон уже нету, матка сожгла.
Наська присмотрелась. Икон и в самом деле не было, лишь белели пятна по сторонам угла да на фанерном угольнике торчал запылившийся огарок свечи.
— Мы же православные, зачем нам другая вера? — с суеверным испугом прошептала Наська.
— Брат Василий говорит, что иконы и церкви мешают человеку прямо к богу обращаться. А вера та же, понимаешь, только без попов и реликвий.
Опустив глаза, Наська уставилась на волосатые худые руки Ивана, нервно сцепленные пальцы, похрустывавшие суставами, на рукава заношенной солдатской гимнастерки с медными, почерневшими пуговицами.
— Еще брат Василий говорит: тело — дом души, а надо обратить его в храм святого духа на земле. Не очень понятно мне, но как-то это божественно, даже знобко делается. — Голос Ивана звучал смиренно, глаза поблескивали сухо, горячечно.
Читать дальше
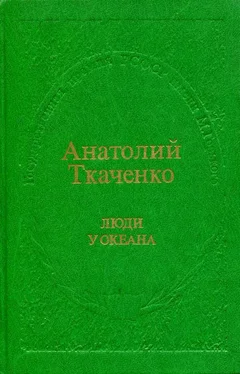











![Анатолий Ткаченко - Этюды о выдающихся украинцах [калибрятина]](/books/426044/anatolij-tkachenko-etyudy-o-vydayuchihsya-ukraincah-ka-thumb.webp)