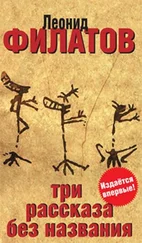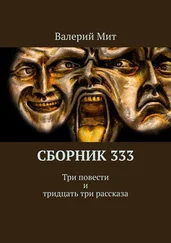Я-то к ней бросился, утешать сперва хотел… И что тут было! Скажи она: сожги Петербург, Микулай… Кудеяра убей… себя убей… Все бы сделал! Она меня в ту ночь все Мишечкой называла, твердила в темноте. А мне и невдомек, что это она своего, лицеиста, треснутым сердцем кликала. Ведь и меня Михайлой зовут, уж я и понял потом-то! Так мы до рассвета и ездили. Все сосало во мне, что завладал я ею не прямым путем.
А лицеиста я поймал все-таки. Подкатил я раз к Петергову, а он и выходит с мадамкой, — очень кругла была и такой пумпон напереди. По ночному времени садятся они ко мне не глядя. «Бельву, — он-то говорит, — и быстро!»
Уж я его и мчал. Подступило во мне к самому рту. Ровно Дуню я перед собой в тот раз видел, будто Дуня бежит впереди. Дуня, думаю, махонькая ты моя барышня, Дуня! А сам кнут из-под сиденья достал, привстал, да Кудеяра то все меж ушей, меж ушей, щекотливого-то! Ровно хотелось мне Дуню впереди себя догнать. Еще покуда деревянная мостовая шла, резины с задних колес у меня сорвало. Прямо колеса с осей вывертывались, как змея Кудеяр летел. А уж как за город выехали, тут и сравнить не с чем. Шляпа с меня слетела, сзади кричат: «раздавили… держи!» А мы уж за две версты…
Мадамка лицеистова так и култыхается, слышу, потому что ни дороги, ни поля, ничего я тут не видал. Как стало коляску-т подкидывать, тут и лицеист мой отрезвел, голосом закричал: «Стой… ты меня убьешь!..» Обернулся я к нему: «Действительно, — говорю, — дорога хромая. Губернатором-то будешь — вели подчинить!» Вцепились они оба в кушак мне, только кряхтят.
Концы с концов, в ужасном я их виде предоставил. «Сколько тебе?» — лицеист спрашивает, а я ему со зла: «Две сотни!» — отвечаю. Он засмеялся и стеклышко стал себе в глаз вправлять. «Дурак, — говорит, — мало просишь! На!» — да и протягивает мне три сотенных. Тут уж не вытерпел я: «Сам дурак, — говорю. — Ты — Миша, я — Миша, так вот тебе, получай!» Да хлобысь его кнутом по глазам, по глазам, и раз, и два, и три… поколе стеклышка не выхлестал. Ух, много тогда шуму было!..
Мишка Жибанда еще с минуту глядел в костер, усмехаясь. Потом стало охлаждаться его разгоряченное лицо, блеск пропал, черты загрубились. Трое пошли за хворостом в лес.
— Вот так барин! До чего довел себя… до мужицкого кнута! — сказал Прохор Стафеев, стоя поблизости Насти.
Настя молчала, и по мере того как совело Мишкино лицо, щеки ее румянились все больше. Она уже раскрыла-было рот, но сделала вид, будто кашляет. Но общее внимание уже приковалось к ней. Тогда она спросила, — голос ее выдавал ее с головой:
— …и долго ты с ней валандался, с Дунькой своей?… И рад небось, что барышня приголубила!..
— Ай-да братень, — непонятливо захохотал Петька Ад и беспричинно вскинул ногами. Ноги у Петьки Ада жили сами собою и по-своему выражали каждое хозяиново ощущение. — Под самые жаберы братень поддел!
— Недолго, нет, — спокойно отвечал Жибанда. — Она потом-то жить со мной стала… — Жибанда помолчал и с зевком перевел глаза на Настю. — Удрал я от нее концы с концов. Весь у ней огонь пропал, — пить стала. Я с бабами несчастливый. Оставил сотню на столе и удрал! Через окно я от нее удрал, по водосточному жолобу…
— Вот тоже и мне вспомнилось: кто из чего! — вступил Савелий, принесший Семену корзинку материных печений и оставшийся ночевать. — Князь мой, Носоватов, огромный человек, из-за утки погиб. У Носоватова-те, вишь, утка была, заграничная… Он ее на золотой цепочке водил, заместо собачки, очень смешно выходило! А был еще у нас в Пажеском-те корпусе армянин Сережа… — Савелий беззаботным смехом скурносил себе нос. — Сережа-те взял да и спарил утку-те с петухом. Главное дело никакой породы петух-те, — с мужиковского двора!
— С петухом ее нельзя… — неуверенно осадил Савелья Евграф Подпрятов.
— Нельзя-я? Да я сам и держал утку-те! Нельзя-я… — лицо Савелья выразило сперва досаду, а затем и неподдельный восторг. — Ну, Носоватов его, конечно, за это по-французски… А тот не вытерпел, Сережа-те, да шпагой, вишь, и прочкнул Носоватова-те, как пуговицу! А за что, спрашивается, погиб человек..? И какой человек!..
— А Дунька-то небось с фокусом была!.. — льстиво подсмеялся Брыкин Мишке Жибанде.
— Хо-хо! — вскочил Петька Ад и опять ноги его сами собой выкинули колено, а руки хлопнули по бокам. — Со своей-то справиться, говорят, не умеешь, куда тебе? Булавка…
— Булавка — не булавка, а Петек баиваться перестали! — тяжко съязвил Брыкин.
Первым после наступившего молчания заговорил Гарасим черный.
Читать дальше