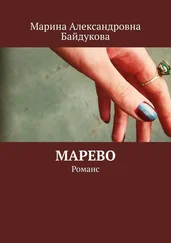— Сестрица и раньше с придурью была.
— С придурью?! Идиотка сущая. Она и читать-то толком не умеет. По мне что: не воруешь — живи, коли работаешь. А братцу нельзя — сан. И так конфуз полнейший, больно до парней жадна.
— Я, тетенька, к ней не пойду, если вам неприятно.
— Твое дело. Хочешь — иди, только не крутись там. Хочешь, здесь вечером сиди. Мне все равно…
— Нет, уж лучше я так посижу…
Однако, когда стемнело, пошла на тот конец поселка, откуда доносились гармошка, крики. Без ошибки: при свете костра, который разложили солдаты с проходившего поезда, увидела сестру.
— А! — пришла, проговорила та и быстро повела прочь, точно чего-то боясь от толпы. Все же в догонку донеслось:
— Глашка, а, Глашь, чего с девкой, а не с парнем ушла?..
— Ой, Тонечка, — чуть на распев грудью заговорила сестра, — охальники они. Мудруют надо мной.
Помолчав, спросила:
— Наговорили? Развели околесину?
Тоня нехотя ответила:
— Говорили. Только зачем ты, Глаша? право…
— Зачем? зачем? э-эх, не суди старшую сестру. Тоже дай срок, сама у кого на шее повиснешь. Из одного месива сделаны.
Потом, оборвав себя, тихо спросила:
— Надолго к нам? В городе как нынче? туго? Как мне давеча сказали, что приехала, я вся захолодела. Вдруг, думаю, павой от сестры отвернешься. И так уж срама натерпелась!.. Ох, и тошнехонько, Тонечка, живу я. Мочи моей нет. Скверная стала, хуже, чем обо мне говорят. Живу, паршивой собаки гаже. И тиранит меня…
Заплакала.
— Кто?
— Мельник, живу с ним. То-есть, каждый день за Федьку…
— За Федьку?
— За рабочего своего.
Прибавила шопотом со странной усмешкой:
— За рабочего, за Федьку, Федюшу… Не отдам его за все злато… хоть и гулящая.
У костра запели. Сестры молчали. Тоне хотелось многое сказать, но слова были не подходящие, точно совестные, вернее, обидные для сестры. Сильно та переменилась… Когда гармошка заиграла городской танец со здешними переливами, Глаша заторопилась:
— Прощай. Спасибо, не побрезгала. Ты стороной иди, не то солдаты в вагон втащат. Они все охальники, только и норовят… Ну, иди, иди…
Даже в плечо толкнула.
Тоня шла в темноте, ничего не видя. О что-то больно ударила ногу и окончательно заблудилась. Повернула назад; но, видимо, вновь ошиблась, так как скоро уперлась в стену. Сквозь ставни падал свет и Тоня постучалась. Через щели видно, как в комнате торопливо задвигались, затем, из сеней спросили:
— Кто там? что надо?
— Простите, я приезжая, мне бы до дома батюшки дойти…
За дверью зашелестели. Отперли:
— Милости прошу зайти. Сейчас проводим. Очень приятно познакомиться. Слышала о вас. Из Питера?
— Да.
— Прекрасный город. Все время в нем жила. В самой фешенебельной части, на Кирочной. Мой муж бригадный генерал. Теперь видите, в каком положении. Раньше при дворе были приняты.
Говорившая ввела Тоню в комнату. За столом сидело человек пятеро. Свет мешал Тоне рассмотреть присутствующих. Встретившая, — повидимому, хозяйка — сказала:
— Чего же спрятали?
— Уж я думала, Клавдия Петровна, либо обыск, либо бандиты.
— Ну вас — к ночи и такие страсти!
— Как же, на прошлую ночь в Мокренском на крайнем хуторе, как есть, всех вырезали. Никого в живых не оставили. Также постучавшись вошли, — рассказывала немолодая, угластая железнодорожная учительница, доставая из-под юбки бутылку.
— Вы, может-быть, с нами откушаете, — пригласила хозяйка, — рассказали бы… Кто теперь живет в Аничковском дворце?
— Не знаю… кажется, никто.
— Пустует, слава богу… Там прелестная голубая гостиная. Я очень любила местечко у камина: тепло и уютно. А Зимний? Говорят, разграблен.
— Нет, не слыхала. Там музей.
— Что вы говорите! Какое варварство… любимые покои государя!
Тоне говорить не хотелось. Сославшись на усталость, попросила отпустить. Тогда вызвали девчонку лет двенадцати и нехотя сказали:
— Вообще жаль, что уходите. Сыграли бы в лото. А так милости просим. Здесь отчаянный застой, вы человек свежий. Я принимаю каждый день…
Отойдя порядком, осторожно ступая в темноте, Тоня спросила:
— Приезжая барыня у вас давно?
— Та, — неопределенно отозвалось из темноты. Пауза; затем, недовольный детский голос проговорил, — много она себе кажет. Теперь не царь, чего кажет?
Так и шла впереди, все ворча.
* * *
На другое утро попадья разбудила рано:
— Уж попрошу тебя, Тонечка, со мной до дида съездить. Иди в сенцы, я самовар раздула.
Тоня одевалась медленно. От духоты, казалось, не спала совсем. Не хотелось двигать руками. Голова — точно свинцом налили.
Читать дальше